Могут ли угнетенные?
Продолжающаяся навязываемая деполитизация быта заставляет пересобрать по-новому известный вопрос, заданный Гаятри Чакраворти Спивак. Нам приходится говорить не столько о репрезентации угнетенного с помощью различных медиумов, сколько о возможности угнетенного мочь, прилагая к своим желаниям действия.
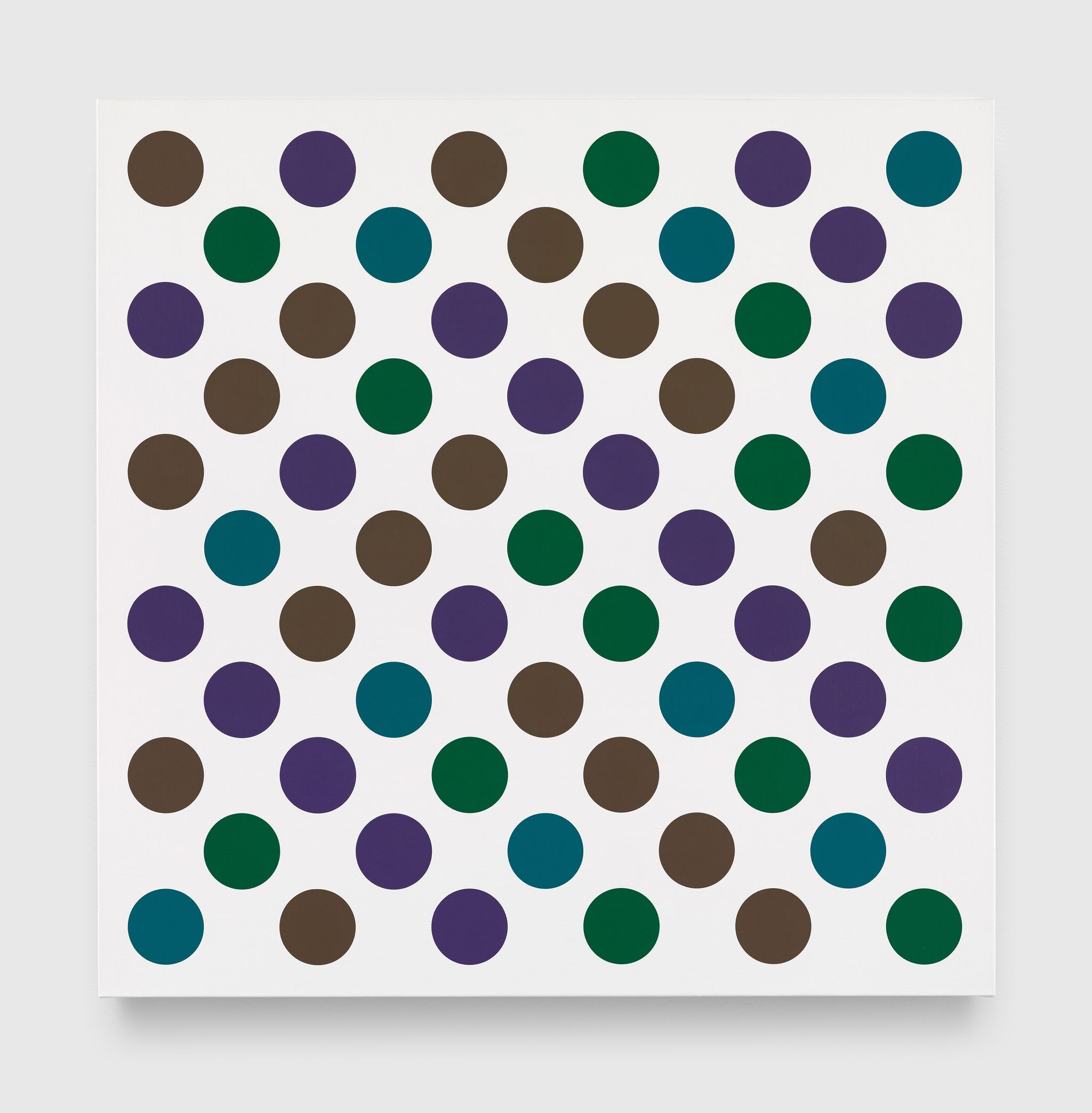
Привилегия узнавать доступна тем, у кого на это есть свободное время. Что такое свободное время? Свободное время — это время, которым человек может распоряжаться вне необходимости выживать, прокармливая и обеспечивая себя минимальным запасом денежных средств, который гарантирует индивиду возможность не погрязнуть в долгах.
Существует точка зрения, что подобная форма жизни зачастую становится привычкой. Скептики в отношении этого вопроса апеллируют к воле. Мол, человек попросту расслабляется, позволяет своему жизненному ресурсу приспособиться под тот быт, который имеет (к примеру, жизнь «работа-дом»; имеется в виду, что человек больше нигде не может бывать). В этой связи широко распространено устойчивое словосочетание, пришедшее из психологии, — «выученная беспомощность», утвердившееся в числе семантических квинтэссенциальных ловушек.
Стоит упомянуть здесь также то, что с языком, который в последнее время все чаще наводняется психологической, психиатрической и психоаналитической терминологиями, укрепляется утилитарный характер дискуссий на многие важные для общественного устройства темы. Например, то же употребление словосочетания «выученная беспомощность» часто преследует цель закончить разговор или по крайней мере подвести промежуточный итог. Забывается здесь соотношение причины болезни и симптома. Быть довольным от употребления такого словосочетания, ожидая от внутренней мысли и собеседника одобрения, все равно что быть врачом, который с важным видом констатирует, что у больного болит глаз — он красный и выглядит неважно, и ждать, когда же больной рассыплется в благодарностях и покинет кабинет.
На сегодняшний день остается открытым вопрос о наличии классового самосознания. Мы знаем, что такое пролетариат; но какое место в ландшафте сознания современного человека занимает мысль о том, что он добывает средства к существованию, продавая свой труд — в конечном счете время и здоровье? Мы можем констатировать, что развитые и развивающиеся экономики, во многом экономики услуг, в большей степени состоят из тех, кто называется прекариат или когнитариат. Поскольку производства нуждаются во все меньшем числе людей, точащих гайки, и во все большем числе людей, помогающих множить репрезентативный потенциал нематериального мира, эксплуатация рабочего перекочевала в сферу «умственного труда».
При этом мы повсеместно констатируем девальвацию престижа языковых единиц, связанных с пролетариатом. Само слово «рабочий» часто употребляется с иронией, придавая фразам двусмысленность и все-таки намекая на эксплуатационный характер труда, при этом сохраняет напоминание о его новой особенности — устремлению к добыванию умственных ресурсов. Нарратив «умственного труда» породил дополнительное разделение внутри рабочего класса. Рабочие «умственного труда» встали над рабочими труда физического. Иными словами, почетнее стало продавать когнитивный ресурс своего организма, нежели ресурс костей и мышц. Действующая иерархия привела к следующему результату: иметь расстройства внимания, концентрации и памяти стало нормальным, а решение проблем при потере тонуса перечисленных способностей носит рекомендательный характер. Мы понимаем, что нежелание идти к психологу может вызвать осуждение, неприязнь, в конце концов закенселлить человека (лишить его морального права сознательно и этически действовать) в глазах определенного числа людей, но мы все еще говорим о таких сообществах, как о меньшинстве, особенно если речь идет о русскоязычных сообществах. Проблема установленной иерархичности внутри рабочего класса стала носить эпидемиальный характер, наслаждаясь положением повсеместности и всепроникаемости, сохранять статус нормального следствия «существующей системы»(1). Расстройства психики, которые рано или поздно приводят и к расстройствам соматическим, стали предпочтительной нормой и уже репрезентируются, как органичная часть образа индивида. Мы получили те же чудовищные последствия для здоровья тех, кто не имеет возможности своевременно получать весь спектр медицинских услуг и не имеет полноценного доступа к регулярной профилактике у квалифицированных специалистов, только в обратном порядке.
Так угнетенный подвергается гнету обстоятельств. Этим словом до сих пор угнетенный объясняет небезопасность и довлеющую над ним власть. Релятивистская формула относительности, установившаяся с упадком эпистемологии(2), не свелась лишь к утверждению «субъективного взгляда на вещи». Размытые границы между рациональным и иррациональным, когнитивным и эмоциональным модусами речи сделали возможной абсолютную победу одного нарратива, превратившегося в метанарратив, над другим. Так через доминацию умственного труда над физическим до сих пор осуществляется террор в отношении ризоматического потенциала угнетенных. Данный акт является в высшей степени варварским присвоением.
Умственный труд оказался живучее не только ввиду экономических причин. Он умело пользуется капиталистическим инструментарием и хамелеонится при взаимодействии со структурами, которые потенциально могут являться для него жизненно опасными. Умственный труд забрал у физического труда всё, поменяв название и манифестируя иные принципы, никак не изменился в последствиях, оказывающих влияние на угнетенных, и прерогативах, выписываемых угнетателям.
Имея данность, в которой когнитивный ресурс становится лакомым куском для производственного потенциала эксплуатационных механизмов, мы приходим к тому, что рабочий, для того чтобы заиметь альтернативную жизнь вне производственных процессов, должен действовать четко и быстро, относиться с уважением и любовью к тому, что он может. Внутри подобных механизмов рабочий легко может стать жертвой иных производственных сил, ведь до ситуации личного выбора он может попросту не добраться в своей цели формирования альтернативной жизни.
Легко усмотреть здесь конфликт внутри взаимосвязи воли, личного выбора и заданной системы эксплуатации. Камю полагал, что свобода в выборе зависимости, а Франкл, к примеру, верил, что отказ от чистки зубов в одно конкретное утро за стенами концентрационного лагеря можно считать протестным актом.
Мы приходим к выводу, что острота слуха в отношении воли настраиваема и тренируема. Но как услышать в шумном мире голос воли и желания — голос альтернативной жизни? Тут ключевыми для нас становятся понятия определяемости и предопределенности.
Ни для кого не секрет, что мир несправедлив. Благодаря неравенству в языке существует такое слово, как амбиции(3), а амбициозность считается одним из самых главных качеств для человека, стремящегося к успеху в капиталистической мир-системе. Каждый должен иметь возможность участвовать в собственной жизни, и так оно и есть — каждый получает возможность участия; но мы также должны иметь в виду вынужденность продажи труда. Некоторые из нас продают все свое время и здоровье, чтобы сводить концы с концами. У большинства же остается так называемое свободное время, которое может оставаться свободным только в том случае, если мы будем держать его крепко в своих руках.
Те из нас, кто стараются разнообразить свой быт, неся флаг любопытства, порой сталкиваются с высокой атомизацией. Социальные связи становятся непрочными, поскольку знание среди людей низкого достатка часто является поводом для подозрения. Оно подпадает под свет привилегии. Бедные знают, что образование доступно не всем, что у образования есть качество, что качественное образование доступно тем, у кого есть ресурс, что у тех, у кого есть ресурс, есть возможность ошибаться не раз и не два.
Те, кто сознательно интересуются миром и его устройством, встают под свет прожектора. Если они хотят играть честно, они вынуждены выносить критику, «быть на равных», но разрешает ли Академия в данном случае быть на равных? Не всегда, Академия рассматривает взаимоотношения с любопытствующими бедными, как часть проекта Просвещения, потому как фантом Просвещения еще мерещится в осуществлении подобных общественных связей, по сути же являясь трупом, как в качестве теории, так и в качестве практики. Просвещение породило иерархичность и привилегированность в сфере добывания знаний, так и не приблизившись к своей цели — установлению знания, как надежного инструмента для обеспечения прочных и доверительных отношений между людьми. Просвещение превратилось в соревнование по наиболее яркому экстазу от обладания бесполезным предметом.
Что мы должны признать? У бедных никогда не будет достаточного времени и ресурса собственного организма для того, чтобы в полной мере соревноваться с теми, кто приобрел институциональную экспертность. Бедняк не может накопить такое же количество контекстуальных совокупных и придаточных знаний о предмете, как это может сделать профессионал, но мир не изменится без тех, кто может его изменить.
Рабочему не отдадут ни пяди земли, потому как все поделено. Ежедневные действия сегодняшнего дня уже были рассчитаны вчера, и для создания случайностей остается действовать тем, кто еще не до конца разобрался, но может разобраться. А вера в то, что за каждым подобным актом стоит неугасаемая воля, незыблема.
Так случается, что многие авторы, скромно боящиеся изложить глупости, исходят из лучших побуждений, предоставляя место людям, способным изложить «более нужные миру мысли». Слухи полнятся подобным. Всё высказанное — глупость, и каждый не помянет ткнуть в нее пальцем, заявив, что и он на такую глупость способен, но из скромности и понимания нищеты собственного ума не идет на придание своим словам овеществленной формы. Не узнает ли здесь читатель в писателе самого себя и наоборот?
Пока те, кто бы хотел увидеть представительство себя в письме, не пишут, их представляют другие — пишущие. И пока первые накапливают контекст, чтобы придать своим словам качественности материала, вторые обгоняют их в этом отношении в разы, так как то, что для первых является предметом интереса, для вторых является (еще и) профессией. Если представительство рабочего в письме будет по преимуществу глупостью, пусть оно ею и будет. Сейчас же бедняк является главным образом лишь объектом исследования. Писатель не должен всю жизнь писать, он должен еще и жить жизнь. И бедняк не должен всю жизнь бедствовать, он нуждается в праве на голос.
То, как нужда отравляет волю, — еще одно чудовищное последствие бедности, просочившееся в образование. Мы не можем говорить о том, что большинство преподавателей получают достаточные деньги, но что взрастила и продолжает взращивать в них нужда? Она взращивает в них тягу к присвоению хотя бы чего-то, ведь в их карманах дыры. И под рукой у них оказывается знание. Это их право коллективной собственности, которое установилось де-факто. Видя, как очередная глупость вырывается из рта студента, чьи родители платят пять своих месячных зарплат в год, надеясь, что именно этот юноша поможет выйти семье на другой уровень дохода в итоге, как преподавателю не соблазниться на study-эскапизм?
В конечном итоге мы задаемся вопросом, существуют ли инструменты выражения для людей скромного достатка. Средства, которые с помощью теории и практики смогут передавать то, что нас интересует больше всего, — что чувствует человек, у которого нет возможности выразить себя в том мире интернет-репрезентаций, в котором живут многие.
Если у бедного класса нет возможности участия в мире репрезентаций, чтобы хотя бы немного рассказать о своем быте и о том, каким им видится окружающее, это не значит, что мы должны думать, будто у нас все хорошо. У нас все хорошо как раз таки потому, что мы догадываемся о каждом из них и втайне радуемся тому расстоянию, которое отделяет нас от тех, кто ищет себе кров на следующую ночь с самого пробуждения. Главнейший же показатель того, что хорошее положение многих не является таким уж хорошим, есть полагание полной уместности знака равенства между свободой и деньгами.
Ежедневной заботой сопереживающего должны стать мысли о том, как создать пространства, в которых эти люди могли бы себя выражать. Не махнуть на них рукой, как на без вести пропавших, — это снова ведет к иерархичности, ведь для неимущих — мы без вести пропавшие: пропавшие в перепроизводстве, в достатке, удовольствии, празднестве. Также не судить по одному обо всех. Потому что это путь комфорта и дальнейшего неведения. Комфорт в том, чтобы протянуть руку и на самом деле обрадоваться тому, что в нее плюнули, что ее отвергли, по ней хлопнули, ударили. Тогда как бы устанавливается квазипрезумпция невиновности. В такой ситуации я будто бы «что-то предпринял», «попытался». Напротив, я не то что не улучшил положение, я его тем самым ухудшаю, потому что до попытки нет опыта.
Вполне возможно, что поэтизируемый, но не романтизируемый опыт бедности может открыть для нас новые текстуальные медиумы. Сейчас же мы пользуемся языком теории и науки: например пишем «мы», непонятно кого имея в виду. Дистанцируемся от предмета исследований, выбирая привычные инструменты; ходим по проторенным дорожкам, собирая остатки плодов обглоданных деревьев. Не сворачиваем, конечно, потому как лес темен. В лесу еще нет опыта, в лесу нет свидетелей, то есть поход туда становится самоценным. Самоценным является и быт нерепрезентируемых классов. Самоценность в данном случае — умение уважать свою бытность, а уважающий свою бытность, в свою очередь, всегда обладатель высокой агентности. Единственное, на что я могу рассчитывать в данной ситуации, — принять тот факт, что мне всегда чего-то будет не хватать, но я не стану ни с кем соревноваться в творении себя, ведь в этом деле я одинок.
Примечания:
1. Здесь я бы хотел привести в пример кажущийся мне уместным отрывок из Фредерика Джеймисона, который сравнивает теорию Шкловского и теорию Брехта. Обе они носят одноименное название остранение или verfremdung на немецком: [«Оригинальность теории Брехта состоит в том, что ею по-новому преодолевается оппозиция социального и метафизического, которая помещается в совершенно иную перспективу. По Брехту, различие между вещами и человеческой реальностью, между природой и произведенными продуктами или социальными институтами не является первичным, первично же, скорее, различие между статическим и динамическим, между тем, что воспринимается как неизменное, вечное, не имеющее истории, и тем, что воспринимается как меняющееся во времени и существенно историческое. Привычка заставляет нас верить в вечность настоящего, укрепляет чувство, что вещи и события, среди которых мы живем, являются в некотором смысле «естественными», а значит постоянными. Цель брехтовского эффекта остранения является, следовательно, политической в самом полном смысле слова; он — неустанно повторяет Брехт — должен заставить вас понять, что предметы и институты, которые вы считали естественными, на самом деле суть только исторические: будучи результатом изменения, они и сами отныне становятся изменяемыми»]. Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры / пер. И. Борисовой. Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 80. (работа «Проект формалистов»).
2. [«С упадком эпистемологии, однако, различие между рациональным и иррациональным, когнитивным и эмоциональным модусами речи уже не кажется таким абсолютным, как прежде. Феноменология, как и вышедший из нее экзистенциализм, отбрасывает это различие как искусственную перегородку и берет своим отправным пунктом именно понятие акта сознания, в терминах которого и эмоции, и идеи суть формы бытия-в-мире. Фактически, экзистенциализм склоняется, можно сказать, скорее к эмоции и чувству (Stimmung (нем. «настроению») у Хайдеггера) как конкретному опыту, нежели к абстракции чистого знания. Таким образом, если предшествующая эпистемологическая философия по инерции признает первенство знания и относит другие модусы сознания к уровням эмоционального, магического и иррационального, то феноменологическая мысль существенно тяготеет к их воссоединению в более широком единстве бытия-в-мире (Хайдеггер) или восприятия (Мерло-Понти)»]. Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры / пер. И. Борисовой. Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 73. (работа «Проект формалистов»).
3. «Амбиция» понимается здесь, как возможность посягнуть на реализовавшуюся возможность другого, так как амбиция всегда устремлена в реально воплощаемое и имеет перед собой осуществляемый пример.
