Жорж Орик. Открытие Сати: из книги «Заметки млекопитающего»
В книгу «Заметки млекопитающего» вошли избранные прозаические отрывки и наброски, притчи и скетчи, «мысли и афоризмы», критические отзывы и эстетические воззвания, письма и эпистолы Эрика Сати (1866–1925), первого современного композитора, вдохновителя группы «Шести», изобретателя «меблировочной музыки», абсурдиста и фантазера, который «пришел слишком юным в мир слишком старый». Публикуем отрывок из книги — статью композитора Жоржа Орика «Открытие Сати».
«Стану ли я
Я жил в Монпелье — где превосходная провинциальная Schola явила мне шедевры Лассо, Жанекена, Котле… Мадемуазель Бланш Сельва, безусловно выдающаяся и слишком рано забытая исполнительница, соблаговолила дать мне несколько уроков. О да, было бы прекрасно стать со временем «великим пианистом»! А может — как знать — даже композитором?
Чуть позже я открыл для себя Дебюсси и Равеля — и тут же возжелал освоить самые смелые их произведения (тогда еще эти авторы не собирали залы и не встречали единодушных восторгов, которые мы видим сегодня). Я сбегáл с урока гармонии и мчался в музыкальную лавку, где хозяин, едва заметив меня, с заговорщической улыбкой доставал первые экземпляры «Прелюдий» Дебюсси, — кажется, Альфред Корто тогда только-только познакомил с ними парижскую публику. А еще меня завораживали «Благородные и сентиментальные вальсы», которые та же публика недавно приняла с непонятной мне стыдливой сдержанностью…
Равель играет свои «Благородные и сентиментальные вальсы».
Чуть позднее мне в руки попало приложение к журналу «Musica». Мог ли я предугадать, какое влияние окажет на меня впоследствии автор «Сарабанды», ноты которой мне в тот раз удалось неоднократно прочесть и которая мгновенно меня захватила?… К тому моменту я уже познал блистательные достоинства другой сарабанды в прекрасной сюите для фортепиано Клода Дебюсси. Как бы я мог себе объяснить (и кто бы мне объяснил) их тайную связь, странное родство гармонии, характера и развития?
Эрик Сати: это незнакомое и странное имя смущало меня и заинтриговывало!… Пришлось ждать много месяцев, прежде чем я снова к нему вернулся, но и на этот раз передо мной встали мелкие и довольно мучительные вопросы. Те несколько произведений, которые я сумел собрать, были написаны порой с большим разрывом во времени. Зато названия им давались с неизменной фантазией. «Очень страшные арии», «Танцы набекрень» (1897); «Отрывки в форме груши» (1903); «В лошадиной шкуре» (1911); «Дряблые прелюдии (для собаки)» (1912); «Автоматические описи» или «Засушенные эмбрионы» (1913)… Все это явно оставляло позади «Пейзажи для слуха» или «Павану на смерть инфанты» Равеля (сегодня это «классика», но тогда ее едва решались внести в программу — «любезный слушатель» ничтоже сумняшеся заявил бы об оскорблении своего достоинства). И потом, разве не было «Шагов на снегу», которые Дебюсси сопроводил пояснением, скорее приводящим в недоумение: «Этот ритм должен передавать звучание печального ледяного пейзажа»?
Дебюсси, «Шаги на снегу». Рояль: Антон Батагов.
Вскоре я узнал, что безупречный Рикардо Виньес, перед которым с благоговением и признательностью — вполне понятными, впрочем, — преклонялась вся молодая школа, исполнил в Париже, совсем недавно, последние сочинения Сати. Несколько статеек, в которых я об этом прочел, были довольно сдержанными: принимали этого загадочного месье Сати без особого воодушевления. Но как «эти господа» (так он их подчеркнуто вежливо называл) вообще решились хоть сколько-нибудь серьезно заговорить об авторе, который, не колеблясь, готов был пожертвовать всем? В результате начала быстро складываться и упрочиваться слава музыканта-весельчака и насмешника. Хотя пора, наверное, извинить и
Между тем действительно ли нельзя разглядеть то, что придает этим листам собственное звучание, цвет, неповторимый до сих пор стиль? Тогда я подумал — и
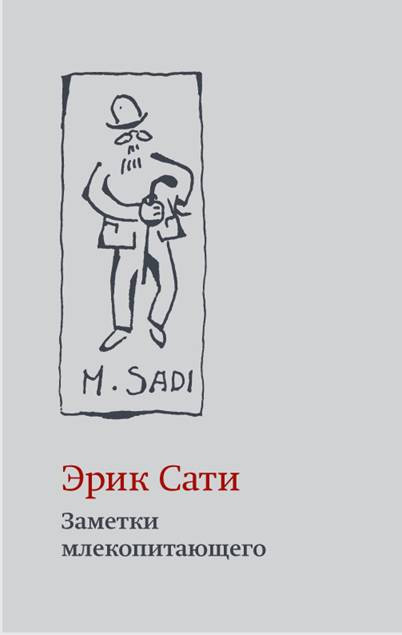
В 1913 году «делу Сати» поспешили дать ход, и в своей провинциальной глуши я незамедлительно узнал приговор, вынесенный столицей. Перед нами, — сообщили мне, — обычный дилетант, безусловно «одаренный», но сомнительного склада ума, довольно легкомысленный, даже ленивый, хоть и вздумалось ему в свои сорок лет вернуться к учебе и сесть за парту в Schola д’Энди. Последние его сочинения были совсем неубедительными, но стоит вспомнить некоторые, можно сказать, пророческие находки, сделанные Сати лет в двадцать, в первых опусах. Вот письмо, адресованное им брату в 1910 году, которое представляет собой — при всей видимой иронии — исключительно трогательный документ:
«Я устал от упреков в невежестве, которым верил, ибо на это в моих творениях указывали сведущие персоны. Через три года тяжких трудов в Schola cantorum я получил диплом, подтверждающий владение контрапунктом… Гордясь своей ученостью, я принялся сочинять… Меня немало бранили в моей несчастной жизни, но никогда так не презирали. Зачем было связываться с д’Энди? Раньше вещи получались чарующие и проникновенные… Теперь молодежь устроила „анти-д’эндистское“ движение и исполняет сарабанды, „Звездного сына“ и прочее — творения, когда-то считавшиеся плодами дремучего невежества (на взгляд этих „молодых“ — напрасно). Такова жизнь, старик. Ничего-то в ней не поймешь…»
Да, пожалуй, и правда «ничего в ней не поймешь» — что-что, а это нам показали. Вот вам, пожалуйста: человеку исполнилось сорок, а он, стремясь к самообновлению, умудрился оскорбить так называемую «современную» Красоту самым неожиданным образом — несколькими краткими зарисовками, образчиками ясного и насмешливого искусства, спокойной уверенностью, с которой он предлагал все то, что, при кажущейся смиренности и — одновременно — озадачивающей толике шутовства, напрочь не было эстетским… Над кем и над чем смеемся?
Что до меня, я был ошеломлен и покорен — не только тем, что несло искусство, столь далекое от предметов, которыми я прежде восхищался: мне также казалось, что оно приоткрывает нечто еще, сулит большее. Едва оказавшись в Париже в октябре 1913 года, я написал Сати — отправил ему статью, только что опубликованную у месье Леона Валласа во «Французском музыкальном обозрении», — в ней я силился как можно совершеннее выразить свое юношеское восхищение.
Увы, я потерял его ответ — первое письмо, отправленное мне тем, кого я, вместе с

И начались долгие визиты, вошедшие у моего «доброго мэтра» в привычку и давшие мне, несомненно, намного больше, чем значительная часть занятий и ученых споров во всех стилях и жанрах, к которым меня допускали впредь… Как описать обед с Сати? Он мог продолжаться часами; вперемешку сыпались забавные воспоминания и размышления, суждения, словно включался прожектор, непредсказуемо и ярко, и это — при кажущейся шутливости — пробуждало любопытство, страсть к ремеслу в довольно беспокойном подростке, каким я был тогда. А заканчивалось все долгими блужданиями по Парижу: мы пересекали город до площади Данфер-Рошро, и там я наконец расставался с Сати после неоднократных остановок в пивных, где он отважно смешивал пиво и кальвадос!… Затем он все так же пешком отправлялся назад, в свою маленькую, бедную комнату в Аркёе, где жил с 1898 года.
Котелок, один и тот же, не снимавшийся круглый год, пенсне, усаженное поверх живых и лукавых глаз, ухоженная бородка, зонтик в руке — как сейчас вижу этого Сократа, близкого и неотразимого, которого я мог слушать бесконечно. Благословенны дни, когда он приносил очередную небольшую тетрадь, в которой с невероятным тщанием записывал последние сочинения. Скромный, но уверенный в себе, он прекрасно знал истинную цену своей музыке и был куда восприимчивее, чем можно представить, к тому, как ее встречают, не особенно удивлялся сдержанности близких товарищей и, я уверен, радовался, чувствуя искреннее доверие моих друзей, да и мое тоже.
А еще я вижу, как он бегло, с неподражаемыми интонациями произносит вступительное слово, предваряя состоявшееся у родителей Ролана-Манюэля первое исполнение «Западни Медузы». Тогда собрались Валентина Гросс, Роже де ла Френе, Альбер Руссель (его бывший преподаватель контрапункта в Schola и самый близкий товарищ), Морис Делаж… Сезоны сменяют друг друга, а он по-прежнему играет или представляет какое-нибудь новое сочинение!… Небольшая группа исполнителей не менялась и продолжала служить ему верой и правдой: Джейн Батори, Элен Журдан-Моранж, Марсель Мейер и, конечно, наш дорогой Виньес, Мария Фройнд, Пьер Бертен… Публика улыбалась, аплодировала, критики назначали нам встречу лет через десять (вообще-то эти «лет десять» давно уже прошли!), любезные собратья — если были воспитанными или осторожными — с достоинством хранили молчание.
«Западня Медузы» («Le Piège de Méduse») — абсурдистская пьеса Сати с музы- кальными номерами его же сочинения (1913).
А потом он в который раз возвращался в ночи к себе в Аркёй.
Впрочем, во время войны 1914 года для Сати начались большие перемены. Валентина Гросс познакомила его с Жаном Кокто, который тотчас же рассказал о нем Сержу «де Дягилев». И вот уже планируется балет, декорации и костюмы заказаны Пикассо. Для нашего «доброго мэтра» близился знаменательный день, который вскоре станет сенсационным. Что подумает о нем эта загадочная «широкая публика», объединившая в Париже обожателей танцевальных спектаклей, поклонников более или менее «живого» искусства и простаков, которые напрочь не способны сопротивляться призыву мало-мальски привлекательной афиши или программки?
Сати трудился над партитурой без спешки и, едва закончив, приносил мне «номера», которые мы принимались играть снова и снова — страшно подумать, сколько раз. Я был заворожен этой свежестью и всем, что давала мне в те сложные времена музыка, от которой распахивались окна кабинетов, грозивших стерилизацией лучшим из нас. По донесениям Кокто, Леонид Мясин с образцовым усердием заставлял репетировать танцовщиков, выбранных Дягилевым и Пикассо, и, со своей стороны, готовился покорять театральный мир (известно, какой невероятный успех принес ему этот по-настоящему великолепный дебют).
Великий день (18 мая 1917 года) настал, и в зале театра Шатле, набитого битком до последнего откидного сиденья, разразился скандал, которые превзошел наихудшие ожидания. «На Берлин!» — восклицали респектабельные господа во власти своеобразного экстаза: даже спустя годы я с трудом понимаю, что именно могло его вызвать. Никакая другая музыка не казалась мне — и не кажется — более ясной, и, конечно, обнаружить в ней «браваду» мог только месье Пьер Лало. «Если бы я знал, что это такая глупость, то привел бы детей!» — безличная ремарка, услышанная Жаном Кокто, более миролюбиво выражает удивление и оторопь большого числа простодушных… Нетрудно представить, что пресса принялась что есть сил радеть за справедливость, клеймя «трех фрицев»: Сати, Пикассо и Кокто.
Раздражение публики провокационной музыкой, хореографией и сценографией «Парада», премьера которого состоялась в разгар Первой мировой войны, когда значительная часть территории Франции была оккупирована Германией, нашло выход в антигерманских лозунгах и обвинении авторов балета в идеологическом пособничестве врагу.
На этот раз наш «добрый мэтр» плохо перенес некоторые критические выпады и ответил несколькими неосторожными почтовыми открытками, так что вслед за нападками газет ему пришлось испытать на себе гнев фемиды. Постыдный процесс привел его в исправительное учреждение: его приговорили к недельному заключению. «Публичные оскорбления и клевета». На этот раз «бош» поплатился. И
Когда все забылось, Дягилев возобновил «Парад», одобренный наконец благожелательной публикой; на выходе из театра Игорь Стравинский, обращаясь ко мне, произнес: «Есть Бизе, Шабрие, Сати…»
С каким удивлением узнали об этом от меня некоторые почитатели «Весны». Но я вспоминал год 1917-й, свист в Шатле, заметки «этих господ». И вспоминал «доброго мэтра».
Мог ли он желать большего?
Книга «Заметки млекопитающего» была опубликована в издательстве Ивана Лимбаха.