Татьяна Грауз: "Сцена: говорит некто — в образе Поэзии" (об одном стихотворении Геннадия Айги)

почему-то вспоминая фильм режиссера Марины Разбежкиной «Время жатвы», идея которого, как говорила Марина, возникла и рождалась у неё после общения с поэтом Геннадием Айги, вспоминается эпизод, когда героиня идёт к священному дереву совершать древний жертвенный ритуал, желая отдалить (остановить) этим действием смерть умирающего мужа; и вспоминается, как Геннадий Николаевич рассказывал, что когда была больна его мать, сестра матери уходила к священному дереву, что росло где-то в особом заповедном месте в лесу, уходила туда с неотступным желанием предотвратить неодолимое, остановить неминуемое.
как удивительно, что даже сейчас мир бывает ещё намагничен такими вот иррациональными проявлениями жизни, таким опытом несказуемого и священного, верованием, что будущее уже случилось, а прошлое можно изменить, вглядевшись в его исток.
но любой ритуал это, конечно же, ещё и спектакль, и всякий участник этого ритуального спектакля похож на актёра, играющего свою особую роль. А сцена этого ритуального действия — даже если место этого действия лес-поле-луг — это тоже часть спектакля. И на этой сцене как в детской игре помимо леса-поля-и-луга возникает «что-то ещё». И это «что-то ещё» проявляется как узнавание или неузнавание мира-вокруг. Однако называние мира-вокруг исконными (искомыми) его именами не всегда создает прочность этого, казалось бы, родного уже пространства. Возникает неведомая прежде, удивительная драгоценная зыбкость неожиданных (как бы вновь первых) прикосновений к этому миру. Прикосновений тревожных, тревожащих и священных. А над всем этим — волной — плывёт поэзия. Она как самозабвение, как обретение внутренней, ранящей неожиданным своим покоем свободы, о которой не всегда понятно как и какими словами можно говорить.
первое приближение
драматургическое в поэзии. В большом корпусе поэтических текстов Айги лишь несколько стихотворений можно рассматривать как опыты «драматургического в поэзии». И эти несколько стихотворений разворачивают совершенно новый смысл метафоры «жизнь — театр». Однако, в целом, поэзия Айги оживает совсем в ином опыте бытия, сосредоточенном на особом — философском — миросозерцании поэта.
Сцена : человеко-цветенье (Антуан Витез)
В
Для хрупкости взгляда —
Сквозь
(будто в
Города-Строящего —
Веет-трепещет-и-веет
Огнем-белизною — до сцены
В
человеко-цветенье!… —
(как — до яви — жасмина мерцанье — свето-толчками)…
а участие в
есть восхищенья безмолвия —
(роль ожидания :
освобожденный
взгляд-человек)
3 мая 1977
понятие «сцена» здесь, в этом стихотворении, это место некой заранее условленной (заповеданной) встречи. Стихотворение — как видно даже из названия — посвящено и обращено к другу, французскому режиссеру и поэту Антуану Витезу, и сцена, именуемая Айги «человеко-цветением», становится воплощением живой и непосредственной пульсации этой встречи, воплощением неугасимого диалога, в котором слово сокрыто, претворено в жест, взгляд, преображено в безмолвие, в свет восхищения, в свет творчества. И человек, вступивший в круг этой заповедной встречи, вступает в круг особой общности, вступает (по словам Айги) в Сияние. И именно в этом круге-Сиянии человеку дана возможность игры и детства.
второе приближение
СТИХОТВОРЕНИЕ-ПЬЕСА
(вещь для сцены)
Пустая сцена, освещенная слабою
Близкий голос (нечто вроде : «ааа»), как бы ничего не выражающий. Долгая пауза.
Дар — как об стену — за сценой.
Обрывок (в то же время — «цельный») бессловесного хора, напоминающего молитвенное песнопе ние.
Сильный удар — как об стену — за сценой. Долгая пауза.
Далекий крик ужаса — по возможности «беспредельного».
Свет на сцене усиливается до максимальной яркости.
1967 год.
это стихотворение почти пьеса в духе абсурдизма. Подзаголовок (вещь для сцены) ничего, по сути, не меняет. Потому что пьеса эта, конечно же, для чтения, а не для представления. Она убедительна и графикой и архитектоникой стиха. Она обогащена ремарками, которые создают особое сценическое её пространство. Однако вряд ли эта пьеса могла бы быть разыграна на сцене. Даже если предположить, что это удивительное событие вдруг произошло, мы бы с грустью созерцали что-то совершенно не похожее на эту пьесу, что-то её упрощающее и, может быть, даже огрубляющее.
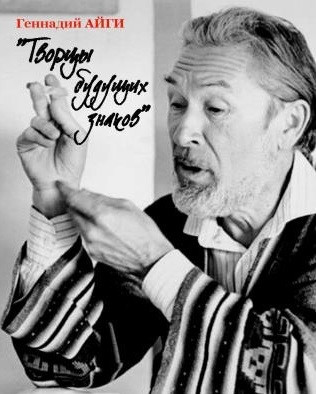
третье приближение
а теперь хотелось бы обратиться к одному стихотворению из архива Г.Н. Айги, ко-торое реконструировано, восстановлено нами (Н. Азаровой и Т. Грауз), а у поэта существует только в черновом рукописном варианте. Датировано это небольшое стихотворение 1984 годом и, как все стихотворения Айги, оно имеет заглавие. Однако по
Сцена : говорит некто — в образе Поэзии
Что
Воображеньем-Железом прикрыв
воображенью-ребенку оставили?
Я
не доказываю
Я
Зрячим.
Вы видели — куст.
Простой.
Призываю — к дальнейшему.
без грима, был.
Меч, воображение-дать.
Перед железом
Воображения-взять.
Рассекается на-двое
По-образу-и-подобию.
Меч?
Травинка простая.
Куст,
о память
Дыхание и выше.
воображенье-свобода. Очищенный
мной человек. Ребенок.
Я
говорю, не бывающая
большей.
28 марта 1984 года
стихотворение «построено» почти экстатически. Даже название его настраивает на особый (священный) ритуал. Каждая строка этого поэтического текста — это особый словесный жест, ёмкий и символический, но одновременно это и монолог (монолог в духе античного Хора), создающий особое трагическое напряжение произведения. Суть этого трагического напряжения высока и поэтична. Она близка сути трагического мировоззрения художника. Это попытка проникнуть в то, что являет собой поэтическое воображение. И проникновение это трагично, как трагично и радостно рождение, как трагична и радостна любовь. И поэт, предчувствуя накал трагического, подводит нас к мысли, что поэзия (когда она является служением этому трагическому, даже если оно и явлено в
драматизм этого стихотворения корнями уходит к истокам драмы, когда ещё нет сценической площадки как узурпированного жесткими представлениями мирка-воображения, а есть только пространство, в котором «действуют» законы священного и магического, в котором действуют законы ритуала. А в ритуале нет места внешнему драматизму, в ритуале любой жест — словесный в том числе — это жест глубинный, внутренний, духовный.
как известно, древние обряды и ритуалы всегда предполагали выход за границы «обыденного» сознания в сознание «изменённое», когда вещи и явления обыденного мира обретают священное (магическое) значение. Мне думается, что основной символ этого стихотворения «воображенье-ребёнок» может «прочитываться» и как вхождение в «измененное» состояние сознания: поэтическое, творческое.
тема детского в поэтике Айги уже не раз затрагивалась в ряде исследований как один из существенных мотивов творчества поэта. Мы видим, как в этом стихотворении тема сокровенного-детского становится особым кодом многих поэтических интуиций Айги. С таинственной помощью сокровенного-детского поэт проникает в мир, именуемый детством, неоспоримая нерастраченность и неоскудеваемость которого для Айги одухотворена, осиянна особым смиренным вниманием к этому миру. А «Воображенье-ребенок» — это то необычайное состояние, когда ещё не затвердело восприятие мира, когда ещё нет «грима» суждений и формул. Это пространство, бережно фиксирующее жизнь.
в центре этого кроткого мира, в котором даже меч (символ воинственный, мужской) преображается в травинку простую. В центре этого мира появляется тот Божественный-Я-Ребёнок, божественной игрой которого могут сниматься противоречия мира. Как отмечают некоторые исследователи, поэт неустанно желает вчувствоваться в незамутненное восприятие ребенка, и одна из его книг «Тетрадь Вероники», посвященная первым месяца жизни дочери, насквозь проникнута особенным, напряжённо-духовным усилием постижения мира Детства. Смиренно очистив свой взор, почти опустошив себя от всего, что поэт воспринимает как жёсткое и «железное», Айги пытается вдохнуть-вздохнуть свободой слов-первосущностей Божественного-Я-Ребенка, чтобы в самом важном (сокровенно-детском) совпасть и сбыться в Другом. И через этого Другого (Другого-Я-Ребенка), через эту зачарованность им, почувствовать природу мира-как-Явления. Именно здесь для поэта происходит долгожданное преображение языка обыденного в язык поэтический.
визуальный облик этих трёх стихотворений Айги — ремарки, особая пунктуация, которая даёт дополнительный «визуальный» смысл поэтическому тексту — всё это придаёт стихотворениям не только визуальную выразительность, но через эту «внешность» стихотворных текстов, через их форму Айги выявляет и исследует драматическое.
опыты работы с «драматическим» в поэзии были всегда. Размышлять об этом мож-но в совершенно разных направлениях. Это и использование «внешних» приёмов драмы — диалогичности (как, например, «Орфей» Е. Шварц), или более сложные формы «драматического» в поэзии В. Аристова (стихотворение «Пьеса» , где в «монолог» стихотворения органично «вмонтирована» режиссерская экспликация некой разыгрываемой пьесы-встречи-двух-поэтесс).
однако коснувшись в этом небольшом эссе лишь нескольких моментов, связанных с понятием «драматического» в поэзии и более пристально вглядываясь в стихотворение Айги «Сцена : говорит некто — в образе Поэзии», мне опять вспоминается дерево из фильма «Время жатвы», и память зачарованно отзывается на священное — всегда особо и всегда неповторимо проявленное в поэзии Айги.
* Первая публикация этого текста: журнал «Футурум-Арт» (2008, № 2-3)
* Для названия статьи взято заглавие стихотворения Г. Айги «Сцена : говорит некто — в образе Поэзии»; стихотворение опубликовано в журнале НЛО (2008, № 5), публикацию подготовила Г. Б. Куборская-Айги, подготовка текста Наталией Азаровой и Татьяной Грауз.
