Танец Невозможного (2025)
"Танец Невозможного" — четвёртая книга из цикла "Молния Свидетельствования". Данный цикл представляет собой жизнетворческий, интеллектуальный проект, состоящий из нескольких книг, в которых нашла своё отражение разрабатываемая автором философия свидетельствования. Этот проект формировался на пересечении визуального искусства, кинематографа, философии и не-конфессиональной теологии. В значительной степени рождение философии свидетельствования обусловлено деятельностью автора в качестве художника и режиссёра, так как во главу угла своей исследовательской программы им поставлена проблематика перцепции, видения, тайна живого свидетельствования как такового.
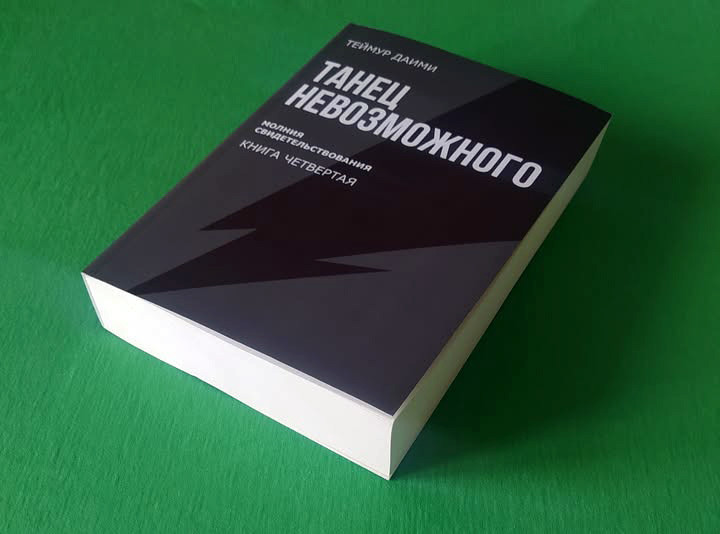
Книга "Танец Невозможного" переносит нас в центр интеллектуальной драмы о природе восприятия. Перцепция становится полем битвы между иллюзией и истиной, где человек, сталкиваясь с пределами своего сознания, призван найти путь к трансценденции. Автор погружает читателя в детальный анализ Дефекта Восприятия — фундаментальной когнитивной ошибки, заложенной в человеческом познании, — и предлагает концепцию трансцензуса как метода её коррекции. Исследование предлагает "дерзкий" взгляд на космологию и расширенную теорию восприятия (как "внутреннего кино"), соединяя философию сознания, феноменологию, квантовую механику и нейрофизиологию. Книга для тех, кто готов выйти за пределы очевидного и прикоснуться к тайне реального.
Предлагаем вашему вниманию предисловие книги
Мы подошли к четвёртой книге цикла "Молния Свидетельствования", которую можно назвать кульминационной среди пяти книг цикла. С точки зрения композиции цикла, она приходится на точку "золотого сечения". В этой работе мы изложим программные концепции философии свидетельствования.
В первой книге мы сделали заявку на исследование (рефлексию оснований) того, что исторически стало называться (изобразительным/визуальным/современным) "искусством", а мы предложили чуть более длинное, но, на наш взгляд, более корректное определение — визуальная антропологическая практика, которая универсальна и включает в себя все виды производства изображений, от живописи до кинематографа и медиа-искусства. И сама эта задача — рефлексия оснований визуальной антропо-практики — не позволила нам оставаться в рамках лишь философии искусства. В связи с этим, по причине выяснения того, что эта практика на заре человеческой истории зародилась отнюдь не случайно, а явилась ответом на зов к осуществлению человеком акта трансценденции (радикального выхода/исхода из любых форм наличного бытия, включая наиболее субтильные, "духовные"), вторую и третью книгу цикла мы посвятили исследованию того, откуда исходит этот зов, т. е. точке, которую мы определили как нулевую точку Абсолютного Предела, она же — пустотная точка зияния, ибо, находясь на антропологической границе, она одновременно является разрывом этой границы, связывая конечного смертного человека с чем-то немыслимо и непредставимо бесконечным. Это точка истока, первоначала, архе… является скрытой, неявной и неочевидной целью человека (человеческого познания), как сложного когнитивного существа, которую человек стремится (сознательно или нет) настигнуть или, точнее, обнаружить внутри себя в своём неизбывном желании дойти до самых предельных основ своего существования, постичь то, что "глубже глубин" и "выше высот". Иначе говоря, налицо такая рекурсивная динамика гносеологической операции: некий зов к осуществлению акта трансценденции исходит из некой (бес)предельной точки, которая предполагает быть обнаруженной человеком внутри себя как раз в процессе этого акта трансценденции; мы иногда используем понятие "трансцензуса".
Таким образом, у нас вырисовывается следующая топологическая картина человеческого космоса, если последний представить себе в виде круга: есть точка А-Предела, которая находится в сокрытом центре человека, а сам человек острием своего внимания пребывает на периферии своего бытия (мы разделяем положение — "человек находится там, куда направлено его внимание"); а между ним и точкой А-Предела простирается этот наш мир — мир наличного. Пребывая же на периферии своего сознания, человек, по словам М. Хайдеггера, погружён в не-аутентичность, неподлинность своего бытия, т. е. проживает не свою уникальную, а безлично-всеобщую (никакую) жизнь человека вообще, которого тот же немецкий мыслитель определял как Das Man.
Основную задачу этой книги можно определить как аналитическую проблематизацию перцепции. Эта задачу мы намереваемся выполнить посредством исследования трёх концептуальных проблематик (или посредством ответа на три вопрошания относительно воспринимаемого нашими органами ощущений): что это за мир (наличное как таковое), как он появился (генезис наличного) и зачем, собственно говоря, ради чего он появился (логика Замысла).
Может возникнуть вопрос: какое отношение проблематика восприятия имеет к трём упомянутым чисто метафизическим и даже теологическим темам? Ответ: самое непосредственное! Чуть выше (во втором абзаце) мы уже поместили весь наш мир внутрь человеческого сознания. Сейчас озвучим один из программных тезисов данной книги: космогония и восприятие — суть одно и то же. То есть между онто-космогенезисом и перцептогенезисом можно поставить знак (онтологического) равенства. Да, понимаем, это звучит не просто необычно, но и, мягко говоря, странно. Но мы собираемся показать, обращаясь к феноменологии, общей семантике А. Коржибского, но, в основном, к квантовой механике и нейрофизиологии, что выдвинутый нами тезис не лишён оснований. Когда будет показана состоятельность идеи тождественности между перцепцией и космологией (космогонией), то станет ясно, что акт трансцензуса (скачок/смещение в иное) означает операцию над перцепцией, т. е. исправление Дефекта Восприятия. Впрочем не будем забегать вперёд и спойлерить.
Напоследок отметим один принципиальный момент. В книге значительное внимание будет уделено нейрофизиологической проблематике. Может возникнуть вопрос и даже недоумение, дескать, каким образом столь укоренённую в физикализме науку можно соотнести с метафизикой и теологией, ведь всё связанное с приставкой "нейро" имеет однозначно эмпирический привкус. Но как это не парадоксально звучит, в современности именно нейрофизиология вместе с квантовой механикой оказались наиболее близки к адекватному описанию проблематики восприятия и архитектуры сознания, предоставив добротный "полевой" материал для нашей работы. Кроме этого, к нейрологической составляющей книги можно отнеситесь как к метафоре.
