Заступники
Предлагаю вашему вниманию перевод беседы Делёза с Антуаном Дюлором и Клэр Парне, опубликованной в 8 номере «Другого журнала» за октябрь 1985 года. Текст вошёл в сборник «Переговоры», раздел «Философия». Круг затронутых вопросов довольно широк, впрочем часть из них уже знакомы читателям: об альтернативе между традиционной проблематикой начал и новой проблематикой движения, о философии как творчестве, а не рефлексии, о параллелизме, отзвуках и резонансах между самостоятельными областями научного, философского и художественного творчества, о кризисе литературы как следствии рыночной экономики, о заговоре и торжестве подражателей, о кризисе романа как следствии нахальства и самонадеянности пишущего журналиста, о кризисе левой повестки, об имитации культурного процесса телевидением, о бесстыдном вынесении на свет интимных отношений и вторжении в частную жизнь, о СПИДЕ как мировой стратегии, о смысле высказывания как интересе, им представляемом. Главной же темой настоящей беседы стали несколько загадочные «заступники». Они выступают ходатаями и гарантами творческого процесса, который разворачивается в трёх главным образом интересующих Делёза областях культуры: науке, искусстве, философии. Приятного чтения!
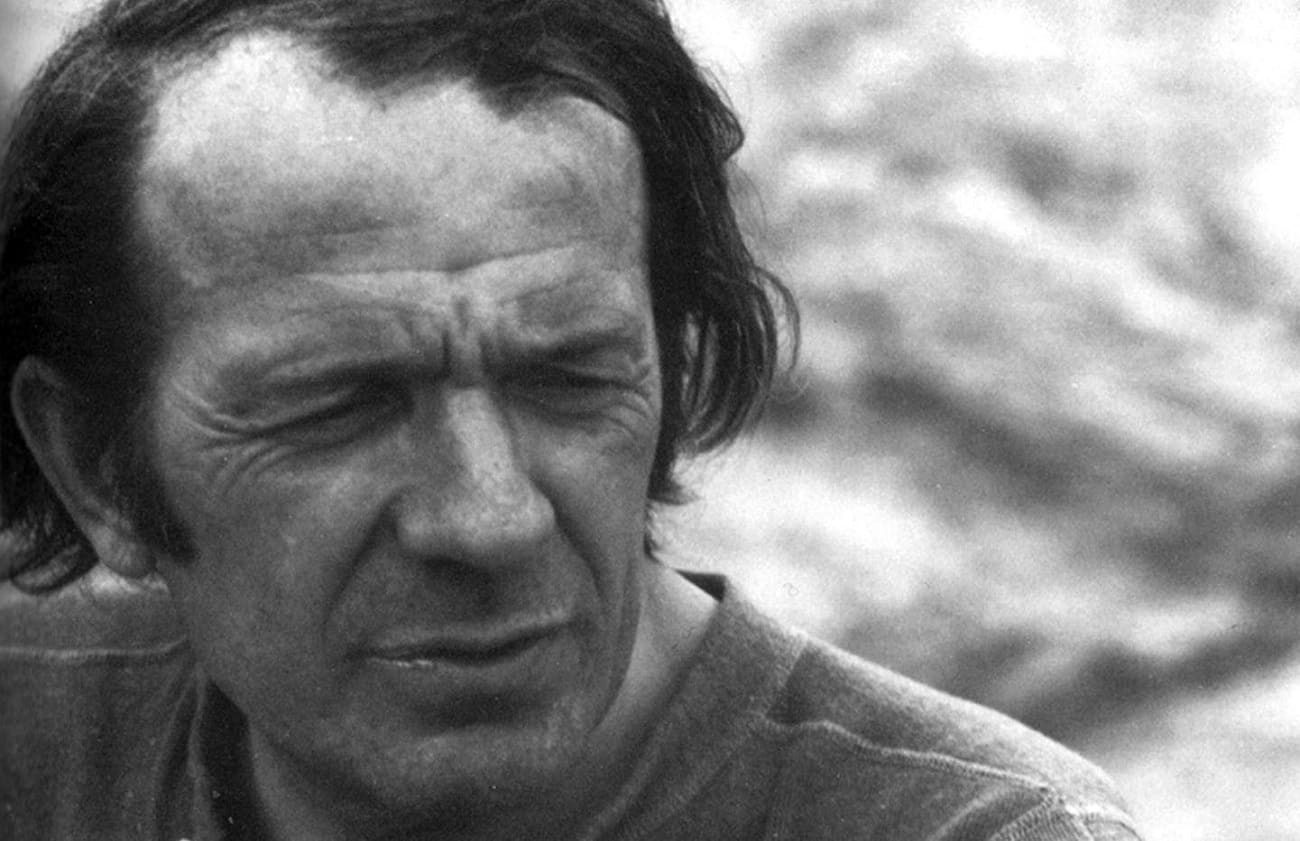
Если сегодняшняя мысль очутилась в скверном положении, так это от того, что под именем модернизма совершается возврат к абстракциям, вновь обнаруживают проблему начал и так далее в том же духе… Одновременно с этим оказывается затруднён любой анализ в терминах движения, векторов… Мы проходим через очень скудный период, период реакции. Хотя философия полагала, что с проблематикой начал покончено. Больше не нужно было ни начинать, ни заканчивать. Вопрос скорее стоял так: что происходит «между»? И точно так же обстоит с движением в физическом смысле.
Изменяется характер движений, которые можно встретить в спорте и принятых по обыкновению. Длительное время опирались на энергетическую концепцию движения: есть точка опоры, или, вернее, некто становится источником движения. Бежать, метать снаряд и т.д.: усилие, сопротивление, стартовая точка, рычаг. Однако сегодня становится понятно, что движение всё меньше определяется приложением точки рычага. Все новые виды спорта — сёрфинг, виндсёрфинг, дельтапланеризм — относятся к этому типу: поймать уже существующую волну. Дело не в начале, понятом как начальная точка движения, а в том, что нужно суметь выйти на орбиту. Как поймать движение огромной волны, восходящего потока воздуха, «оказаться в середине» вместо того, чтобы начинать усилие — это фундаментальная задача.
И тем не менее в философии опять возвращаются к вечным ценностям, к идее интеллектуала как хранителя вечных ценностей. Уже Бенда упрекал Бергсона: предать собственный класс — класс клерков, пытаясь помыслить движение. А сегодня роль вечных ценностей взяли на себя права человека. А также правовое государство и другие понятия, про которые все знают, что они слишком абстрактные. От их имени останавливают любые попытки мыслить, любой анализ в терминах движения оказывается блокирован. Однако если подавление принимает столь ужасающие формы, то это потому, что оно ограничивает движение, а вовсе не потому, что оно оскорбительно с точки зрения вечности. Обнаруживая себя в скудную эпоху, философия находит прибежище в «рефлексировании над». Если она не создаёт ничего сама, что ещё ей остаётся, кроме как рефлексировать над? Тогда она рефлексирует над вечностью или над историчностью, но при том самой ей не удаётся осуществлять движение.
Философ не рефлексирует, он творит
На самом деле нужно забрать у философа право рефлексировать «над». Философ творит, а не рефлексирует.
Меня упрекают в том, что я продолжил аналитическую работу Бергсона. На самом деле разведение Бергсоном понятий восприятия, аффектации [affection] и действия как трёх видов движения представляет собой совершенно новый способ членения. Он по-прежнему не утратил актуальности, потому что, как мне кажется, его не усвоили должным образом, и в этой своей части мысль Бергсона наиболее сложна и прекрасна. В случае с кино такой аналитический подход срабатывает сам собой: изобретение кино и формирование мысли Бергсона шли параллельно. Введение движения в концепт совершается точно в ту же эпоху, что и введение движения в образ. Бергсон даёт один из первых примеров самодвижения мысли. Ведь недостаточно сказать: концепты движутся. Нужно ещё сконструировать концепты, которым доступно движение в интеллектуальном смысле. Театром теней тут не обойдёшься, необходимо сконструировать образы, способными к самодвижению.
В моей первой книге я подходил к кинематографическому образу как наделённому самодвижением. Во второй книге я рассматриваю кинематографический образ с точки зрения обретения им ауто-темпоральности. Дело поэтому не в том, чтобы подходить к кино с точки зрения «рефлексии над», а в том, чтобы подойти к нему как к сфере, в которой разворачиваются действительно интересные мне вещи: в каких условиях может возникнуть само-движение или ауто-темпоральность образа, как эволюционировали оба фактора с конца XIX века. Ведь с тех пор, как складывается кино, основанное на времени, а не на движении, становится очевидно, что по сравнению с периодом его зарождения произошло существенное изменение в самой его природе. И только кино является той лабораторией, благодаря которой мы можем уловить произошедшие перемены по мере того, как движение и время становились конституирующими элементами самого образа.
Поэтому первая стадия кино — это самодвижение образа. Может статься так, что оно получит воплощение в нарративном кино. Но не обязательно. У Ноэля Бёрча есть рукопись, интересная как раз в этом отношении: нарратив не является неотъемлемой частью кино с момента его возникновения. К привнесению нарративности в
Разумеется, движение по-прежнему будет оставаться составной частью образа, но вместе с появлением чисто оптических и сенсорных ситуаций, высвобождающих образ-время [images-temps], движение утрачивает былое значение и сохраняется лишь в качестве указателя [index]. Образ-время вовсе не отсылает к тому, что случилось до, а что — после, не означает последовательности. Последовательность существовала с самого начала как закон построения нарративов. Образ-время не смешивается с тем, что случается во времени, речь идёт о новых формах сосуществования, серийности [mise en série], преобразования.
Преобразование пекаря
Меня интересует отношение между искусством, науками и философией. Ни одна из этих дисциплин не имеет над другими никакого преимущества. Каждая из них созидательна. Подлинная задача науки — создавать функции, подлинная задача искусства — создавать доступные чувствам агрегаты, а философии — создавать концепты. Выделив эти крупные рубрики, какими бы обобщенными они ни были, функция, агрегат, концепт, можно поставить вопрос, какие отголоски и резонансы возникают между ними? Как возможно, что вдоль совершенно разных линий — при всей неустранимой разнице между ними с точки зрения ритма и движения их производства — как возможно, чтобы концепт, агрегат и функция повстречались?
Первый пример: в математике существует особый тип пространства, именуемый римановским. Математически точно заданный, описываемый различными функциями, этот тип пространства предполагает, что задан набор смежных кусочков, которые можно соединять бесконечно разнообразно, и помимо прочего благодаря этому стала возможной теория относительности. А теперь я беру современное кино и констатирую, что после войны оно открывает новый тип пространства, для которого характерна смежность, а соединение небольших кусков друг другом осуществляется бесконечно разнообразно и не задано заранее. Тут мы имеем разъединенные пространства [espaces déconnectés]. Если я говорю: перед нами римановское пространство, я буду понят, и однако, это утверждение — точное лишь до определенной степени. Дело не в том, чтобы сказать: кино проделало то же, что и Риман. Но если мы будем так определять пространство — через смежность элементов, согласованных бесконечно разнообразно, через визуальные и сонорные смежности, согласованные тактильно — тогда мы получим брессоновский тип пространства. И поэтому, разумеется, Брессон — не Риманн, но он осуществил в кино то же, что имело место в математике, а значит — налицо отзвук.
Другой пример: в физике есть кое-что чрезвычайно меня интересующее, что было изучено Пригожиным и Стенгерс и получило название «преобразование булочника». Берут квадрат, растягивают его в прямоугольник, затем разрезают прямоугольник надвое, накладывают одну из частей на другую, затем подвергают его ряду повторяющихся преобразований, проделывая своего рода операцию смешивания [opération du pétrin]. В результате ряда преобразований две точки, сколько бы близко они не располагались в исходном квадрате, в конце концов окажутся в разных половинах. Всё это становится предметом целой системы расчётов, которой Пригожин на основании своей физики вероятностей придаёт большое значение.
И здесь я перехожу к Рене. В фильме «Люблю тебя, люблю» мы видим героя, который возвращается в определенный момент жизни, а сам этот момент оказывается всякий раз вписан в новый ансамбль [ensembles]. Мы имеем своего рода слои, которые беспрестанно перемешивают, видоизменяют, перераспределяют, и в результате то, что на одной поверхности располагалось вблизи, на другой окажется очень далёким. Такая концепция времени шокирует, она очень любопытна с точки зрения кинематографа и является отголоском «преобразований булочника». До такой степени, что мне не кажется недопустимым утверждать: Рене близок Пригожину, а Годар, хотя и по другим основаниям, — Тому.
Но следует констатировать, что между создателями научных функций и создателями кинематографических образов обнаруживаются удивительные сходства. Это верно и применительно к философским концептам, поскольку существуют дифференцированные концепты таких пространств.
Вместе с тем философия, искусство и наука вступают между собой в отношения резонанса и обмена, но всякий раз на то имеются внутренние причины. Их собственная эволюция определяет, удастся ли им наткнуться друг на друга. Поэтому в этом смысле следует рассматривать философию, искусство и науку как особые, самостоятельные мелодические линии, которые всё время накладываются друг на друга. Философия не обладает никаким псевдо-приматом рефлексивности, а потому она ни в чём не уступает с точки зрения созидательности. Создавать концепты ничуть не проще, чем создавать новые визуальные, сонорные комбинации или функции. Что необходимо усматривать, так это то, что интерференция линий не зависит от взаимно обращенной рефлексии. Дисциплина, которая видела бы своей задачей прослеживать внешнее ей творческое движение, утратила бы всякую собственную созидательную роль. Всегда было важно не следовать за движением соседа, а осуществлять собственное движение. Если не начать, не сдвинешься с места. Интерференции — это и не обмен: всё совершается либо как дарение, либо как захват. Важно, есть ли заступники. Созидание — это заступники. Без них нет произведения. Ими могут стать люди: для философа — художники или учёные, для учёного — философы или художники, но ими также могут стать вещи, растения, даже животные, как было у Кастанеды. Будут ли они выдуманными или реально существующими, одушевлёнными или неодушевлёнными — необходимо фабриковать [fabriquer] заступников. Тут серия. Если не составлять серий, пускай и полностью воображаемых, пропадёшь. Мне нужны заступники, чтобы выразить себя, а они в свою очередь не получили бы выражения, не будь меня: работают всегда сообща, даже если на первый взгляд это не так. А уж тем более, когда это лежит на поверхности: Феликс Гваттари и я, друг для друга мы заступники.
То, как происходит фабрикация заступников в рамках сообщества, можно отчётливо видеть у канадского режиссёра Пьера Перро: только дав самому себе заступников я в состоянии сказать то, что должен сказать. Перро полагает, что если он заговорит в одиночку даже в рамках художественного вымысла, он неизбежно будет говорить с позиций интеллектуала и не сможет отделаться от заранее заданного дискурса, представляющего [интересы] «хозяина или колонизатора». Нужно же взять человека в тот момент, когда он выдумывает легенду, поймать его за этим делом с поличным. Тогда между двумя или несколькими людьми возникает дискурс меньшинства. Здесь мы обнаруживаем бергсоновскую функцию воображения [fabulation]. Заставая людей за выдумыванием легенд, постигают процесс формирования народности. Народы не даются в готовом виде сразу. В известном смысле народ — это то, чего не достаёт, как говорил Пауль Кле. Можно ли утверждать, что палестинский народ существовал? Израиль говорит, что нет. Без сомнений, такой народ существовал, но главное не это. Дело в том, что в момент изгнания палестинцев с их территорий и благодаря ответному сопротивлению был запущен процесс возникновения народа. Это в точности соответствует тому, что Перро называет «быть пойманным с поличным за выдумыванием легенд» [flagrant délit de légender]. Любой народ возникает именно так. Таким образом, заранее установленным фикциям, всегда возвращающим нас к колонизаторскому дискурсу, нужно противопоставить дискурс меньшинства, который формируется благодаря тому, что находят заступников.
Идея, согласно которой истина не является чем-то предсуществующим, чем-то, что нужно открывать, но что напротив её нужно создавать в каждой сфере — эта идея очевидна, к примеру, в науках. Даже в физике нет истин, которые не требовали бы символической системы, даже если речь идёт о простой системе координат. Нет таких истин, которые не «извращали» бы предустановленных идей. Говорить «истина создаётся» значит подразумевать, что истина задана серией операций по обработке материала [matière], она в буквальном смысле является продуктом серии фальсификаций. Моё сотрудничество с Гваттари [таково]: мы друг для друга фальсификаторы, то есть каждый берёт предлагаемые другим понятия по-своему. По мере этого образуется рефлексивная серия с двумя терминами. Не исключено, что появятся серии с большим количеством терминов, сложные серии, с бифуркациями. Силы ложного, которые производят истину, — это и есть заступники…
Левым нужны заступники
Отступление на политическую тему. Многие ждали от социалистического режима новый тип дискурса. Дискурса, приближенного к действительно существующим движениям, и потому способного примириться с ними через создание общих сборок [agancements]. Например, Новая Каледония. Когда Пизани сказал: «В любом случае мы добьёмся независимости», это уже был дискурс нового типа. Этим было сказано: вместо того, чтобы прикидываться, будто не замечаешь реального движения, делая его предметом переговоров, нужно с самого начала признать результат [le point ultime], а переговоры вести с прицелом именно на этот результат как заранее оговорённый. В таком случае переговоры коснутся способов, средств, сроков. Отсюда и упрёки со стороны правых, которые придерживаются освященного временем правила и стремятся прежде всего избегать вопроса о независимости, даже если всем понятно, что её не избежать, потому что её-то и следует в первую очередь сделать предметом длительных и трудных переговоров. Не думаю, что правые питают иллюзии, они не глупее остальных: дело в том, их техникой является противопоставлять себя изменениям [mouvement]. В философии мы находим тому пример в случае с Бергсоном, который столкнулся с противодействием. Либо стать частью изменений, либо остановить их: с политической точки зрения мы имеем здесь две абсолютно разные техники. Для левых задача состоит в том, чтобы отыскать новый способ говорить. Вопрос не столько в том, что нужно убедить, а в том, чтобы самому быть понятным. Быть понятным — значит заставить принять как исходно данные не только ситуацию, но и саму проблему. Сделать видимыми вещи, которые в других условиях остались бы незамеченными. Если брать проблему Каледонии, нам говорили, что в определённый момент на этой территории проводили политику колонизированного народа, в результате чего Канаки стали меньшинством на своей собственной земле. Когда это началось? Какой ритм принял этот процесс? Кто делал это? Правые отвергают такие вопросы. Если эти вопросы оправданны, тогда уяснение исходных данных поднимает проблему, которую правые утаивают. Как только проблема поставлена, от неё уже не отмахнёшься, и тогда правым в свою очередь придётся изменить дискурс. Поэтому роль левых — неважно, находятся они у власти или нет — состоит в том, чтобы открыть такой тип проблем, которые правые хотят скрыть любой ценой. К сожалению, в этом отношении мы можем констатировать полный провал информирования. Разумеется, одно можно сказать в защиту левых: во Франции корпус чиновников и уполномоченных традиционно формировали правые. Даже если они искренне захотят пойти на встречу, постараются играть в предложенную игру, им не удастся поменять ни образ мышления, ни способ существования.
Среди социалистов не нашлось людей ни для освещения, ни даже для разработки собственной повестки, присущего им способа ставить проблемы. Им надо было бы задействовать параллельные, смежные круги. Их заступниками должны были бы стать интеллектуалы. Но по этой линии всё ограничивалось дружескими контактами, без конкретики. Нас не обеспечили минимально необходимым набором вопросов. Приведу три далёких друг от друга примера: кадастр Новой Каледонии, который хотя и стал предметом обсуждения ряда специализированных изданий, широкого публичного освещения всё же не получил. В случае с проблемами образования дело обставляют так, будто частное образование — это образование католическое; мне так и не удалось узнать, каков удельный вес светских учреждений в сфере частного образования. Другой пример: с тех пор, как правым вновь удалось победить в большом количестве муниципалитетов, было урезано финансирование самых разнообразных культурных инициатив, иногда крупных, но очень часто и маленьких, совсем местного уровня, и особенно интересно то, что их очень много и они очень мелкие; но точный список составить невозможно. Перед правыми такие проблемы не стоят, потому что они у них всегда уже есть заступники, непосредственные, напрямую подчинённые. Тогда как левым нужны косвенные и свободные заступники, тут другой стиль, и прежде всего левые вообще сначала должны сделать их возможными. А ведь именно коммунистическая партия обесценила их, дав им смехотворное имя «попутчиков», хотя левые в самом деле нуждаются в них, поскольку левым нужны думающие люди.
Заговор подражателей
Чем определяется кризис сегодняшней литературы? Режим бестселлеров — это быстрый оборот. Многие книготорговцы уже начинают подстраиваться под продавцов грампластинок, а те в свою очередь берут лишь такие товары, которые входят в
Ужасно, что творится с «Апострофами». Передача, которая удивляет своим техническим исполнением, организацией, кадрированием. Но в то же время — нулевое состояние литературно-критической работы, сама литература стала спектаклем варьете. Пиво никогда не скрывал, что по правде ему нравились только футбол и гастрономия. Литература становится телевизионной игрой. Подлинная проблема телевизионных программ в том, что повсюду теперь игры. И всё же вызывает беспокойство тот факт, что есть энтузиасты, убеждённые, будто они причастны культурным начинаниям, когда наблюдают за соперничеством двух людей, пытающихся составить слово из девяти букв. Происходят странные вещи, о которых режиссер Росселини сказал исчерпывающе. Только послушайте: «Сегодняшний мир погряз в напрасной жестокости. Жестокость — это вторжение в сферу личного, доведение человека до состояния, когда исповедуются полностью и безосновательно [confession gratuite]. Если бы речь шла об исповеди с
Вездесущая пара
Бытует мнение, будто люди не способны выразить себя. Но на самом деле они только и делают, что выражаются. В проклятых парах [couples maudits] женщина, стоит ей только показаться уставшей или рассеянной, непременно столкнется с вопросом со стороны мужчины: «Что на тебя нашло? Расскажи…». И наоборот. Радио и телевидение сделали пару вездесущей, её повсюду размножили, мы насквозь пронизаны бесполезным словесным потоком, безумное количество изображений и слов. Глупость всегда говорливая и зрячая. Теперь проблема не в том, чтобы заставить людей говорить о себе, а в том, чтобы отыскать вакуоли уединения и тишины, благодаря которым наконец появится что-нибудь, достойное выражения. Силы подавления не мешают людям говорить о себе, они напротив заставляют их выражать себя. Радость от того, что не нужно ничего говорить, право не говорить, ведь именно условия благоприятны для появления редких вещей, заслуживающих высказывания. Сегодня задыхаются не от путаницы, а от множества высказываний, не представляющих никакого интереса. Но так называемый смысл высказывания есть интерес, который оно представляет. Можно слушать часами, как люди говорят: совершенно не интересно… Поэтому так сложно дискутировать, поэтому дискуссии всегда неуместны. Другому человеку не скажут: «То, что ты говоришь, совершенно не интересно». Ему можно сказать: «Это ложь». Но ведь то, о чем говорят другие люди, никогда не является ложным, потому что дело не в том, ложь или нет, а в том, что говорят о глупостях, о не имеющих совершенно никакого значения вещах. Всё уже было сказано тысячу раз. Понятия важности, необходимости, интереса играют в тысячу раз важнее, чем понятие истины. Не потому, что они замещают её, а потому, что они выступают мерой истине, высказываемой мной. Даже в математике: Пуанкаре говорил, что многие математические теории не представляют интереса. Он не сказал, что они — ложные. Хуже.
Колониальный Эдип
Возможно, журналисты внесли свою лепту в кризис литературы. Само собой, часто бывало, что журналист брался за написание книг. Но когда они принимались за книги, они сталкивались с формой иной, нежели печатная газета, они становились писателями. Ситуация поменялась, потому что ныне журналист убедил себя, будто форма книга принадлежит ему по праву, будто ему больше не нужно прикладывать никаких особенных усилий, чтобы овладеть ею. Журналисты завоевали литературу одним махом, и причем как корпорация. Отсюда следует один из вариантов стандартного романа, какой-нибудь Колониальный Эдип, путевые записки очередного репортёра, отчёт о его любовных похождениях, о поисках отца. В результате забрызганными оказались все писатели: писатель вынужден стать журналистом самому себе и своему творчеству. В конце концов, всё сводится к обмену между
Если литература умрёт, то насильственной смертью
Те, кто толком не читал и не понял МакЛюана, могут полагать в порядке вещей, будто аудио-визуальное потому вытесняет книгу, что несёт в себе столько же творческого потенциала, сколько принадлежало ныне усопшей литературе или другим способам выражения. Это не так. Потому что если аудио-визуальному и удастся вытеснить книгу, то не в качестве конкурирующего выразительного средства, но вследствие монополии со стороны ряда формаций, которые душат творческий потенциал, в том числе и самого аудио-визуального. Если литература умрёт, то лишь насильственной смертью и вследствие заказного политического убийства (как было в СССР, пускай этого никто и не заметил). Вопрос не в сравнении жанров. Альтернатива не между письменной литературой и
О пролетариате и теннисе
Стиль — это литературное понятие, это синтаксис. И однако говорят о стиле в науках, где никакого стиля нет. Говорят о стиле в спортивных дисциплинах. Существуют очень продвинутые исследования в области спортивных дисциплин, но мне они слишком мало известны, вероятно, их можно свести к мысли, что стиль — это новизна. Разумеется, в спорте приняты количественные шкалы оценки с фиксацией рекордов, усовершенствованиями аппарата, обуви, шеста…Но кроме того есть качественные изменения, появление новых идей, что является делом стиля: как случилось, что перешли от ножниц к перевороту, к
СПИД и мировая стратегия
В медицине есть одна важная проблема — эволюция болезней. Разумеется, внешние факторы имеют значение: новые формы микробов или вирусов, изменчивость социальных данных. Но есть также симптоматология, объединение симптомов в группы: в течение короткого промежутка времени симптомы перестают группироваться по-старому, выделяют новые болезни, которые прежде распределяли с точки зрения иных контекстов. Болезнь Паркинсона, болезнь Роджера и другие дают свидетельство значительных изменений в способах группировать симптомы (своего рода синтаксис медицины). Вся история медицины состоит из подобных группировок, изолирования, перегруппировки, для которых технологические новшества служат условием возможности, однако не являются определяющим фактором. Как с этой точки зрения развивались события после войны? Открыли «стрессовые» заболевания, при которых болезнетворное действие осуществляется не внешними агрессорами, а неспецифическими защитными реакциями, действующими на пределе или наоборот в условиях своего истощения. В послевоенный период медицинская периодика была переполнена дискуссиями о стрессе в условиях современного общества, и как следствие — о новой классификации болезней. Позднее открыли ауто-имунные заболевания, болезни самого себя: защитные механизмы организма, переставшие узнавать его собственные клетки, либо же внешние возбудители,
В творчестве следует видеть способ проложить путь между невозможностями. Кафка объяснял: невозможность говорить по-немецки для писателя-еврея, невозможность говорить по-чешски, невозможность не говорить. Пьер Перро подхватывает проблему: невозможность не говорить, говорить по-английски, по-французски. Творчество появляется в тот момент, когда достигают узких мест. Даже в отдельно взятом языке, например во французском, новый синтаксис выступает иностранным языком в языке. Если множество невозможностей, с которыми сталкивается творец, не держат его за горло, он никакой не творец. Творец есть некто, для кого творчество — это создание своих собственных невозможностей, и тем же самым он создает возможное. Как Макинрой: отыскать можно, лишь разбив голову. Необходимо подкапывать стену, потому что если нет ряда невозможностей, не будет и линии побега, того выхода, которым и является творчество, той силы ложного, которая создает истину. Нужно писать жидко или газообразно, именно потому что обыденное восприятие и мнение является твердым, геометрическим. Так поступал Бергсон в философии, Вирджиния Вульф и Джеймс в романе, Ренуар в кино (экспериментальном кино, которое ушло чрезвычайно далеко в изучении состояний материи). Совсем незачем покидать землю. Наоборот, нужно стать тем более земным, чем дальше продвигаются в изучении законов поведения жидкости и газов, от которых зависит земля. Поэтому стилю требуется полная тишина и много работы, чтобы стиль сам стал источником завихрений, возникающих прямо на месте, он становится запущенной по ручью спичкой, за которой бегут дети. Ведь совершенно ясно, что стиль не появляется от того, что слова — составляют, фразы — комбинируют, или находят применение каким-нибудь идеям. Нужно раскрывать слова, рассекать вещи, чтобы обнаружились особые векторы, векторы земли. Любой писатель, любой творец — это тень. Как написать биографию Пруста или Кафки? Как только её начинают писать, тень становится важнее тела. Истина — это производство существования. Она — не в головах, она — то, что существует. Писатель отдаёт реальные тела. В случае с Пессоа персонажи воображаемые, не столь уж воображаемые, ведь он наделяет их письмом, функцией. Но
