Книжная серия «Чёрный котёнок»

Частные разговоры о детской литературе как минимум позволяют разблокировать часть сокрытых даже от самих себя воспоминаний, как максимум отводят внимание понятиям и предметам нишевой сферы, где все наши слабости и страсти определены очень чётко. Под такими книгами чаще всего подразумевают произведения, чей статус «детскости» меняется в зависимости от популярности, соборности восприятия: справедливо это или нет, каждый решает самостоятельно. Другое дело, что предмет беседы может нет-нет да и выйти за рамки условного фэнтези, многим набившего оскомину.
Подростки 90-х и 00-ых смутно помнят средние по толщине книги с эмблемой очаровательного чёрного котёнка в лихо заломленной кепочке. Оформление серии до сих пор изумляет выверенностью карандашных набросков (внутри), какой-то растущей смешливостью и даже абсурдом в поиске предметов-ассоциаций (снаружи). Мальчишки и девчонки в спортивных куртках и бейсболках припадают к биноклю, завязывают шнурки в подворотне, ловят бандитов на живца: тем временем предметы в их руках, начиная от потрёпанного баула и заканчивая могильными крестами, задают образ последовательных в своих желаниях людей, несмотря на внешнюю уязвимость.
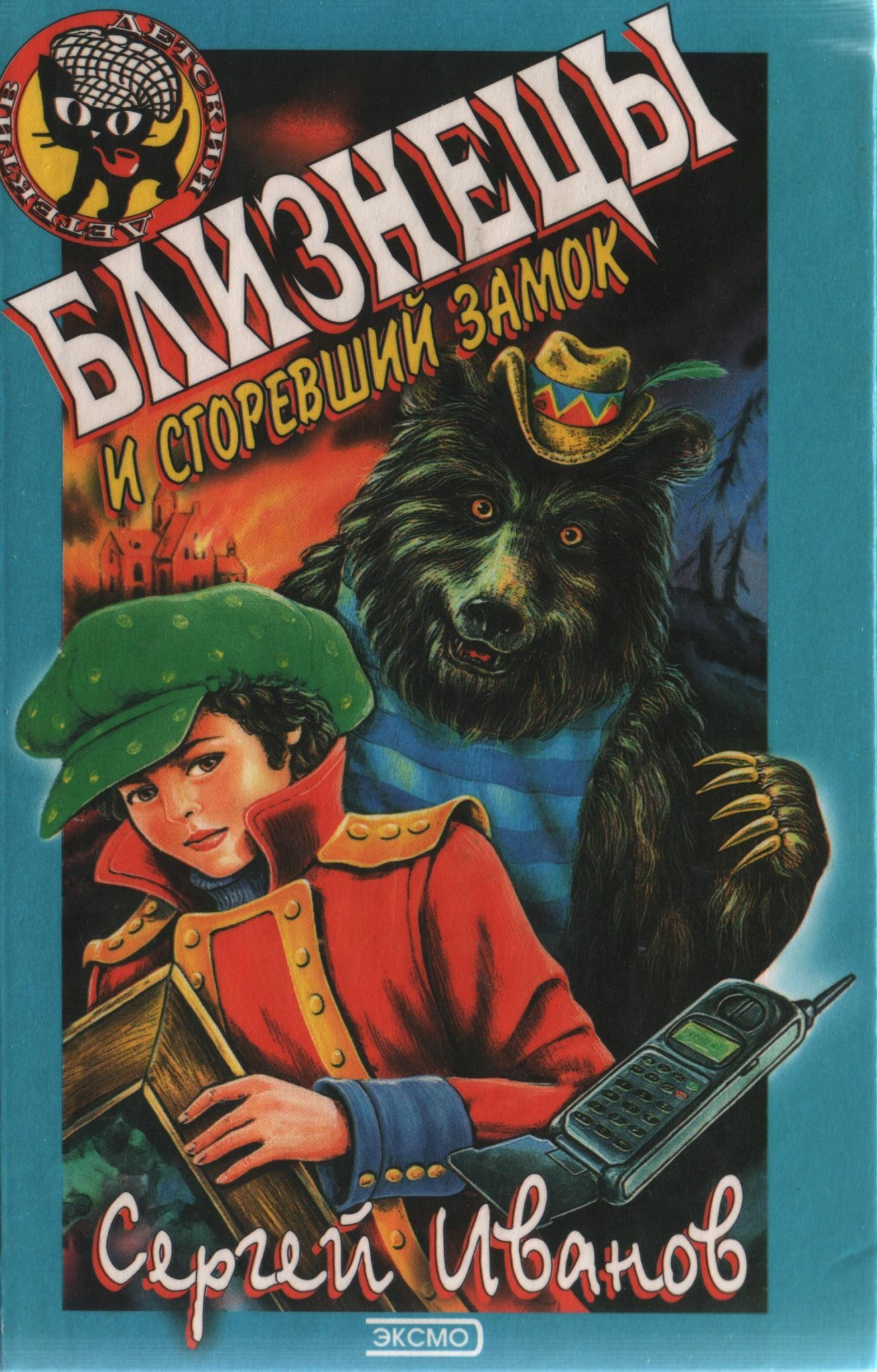
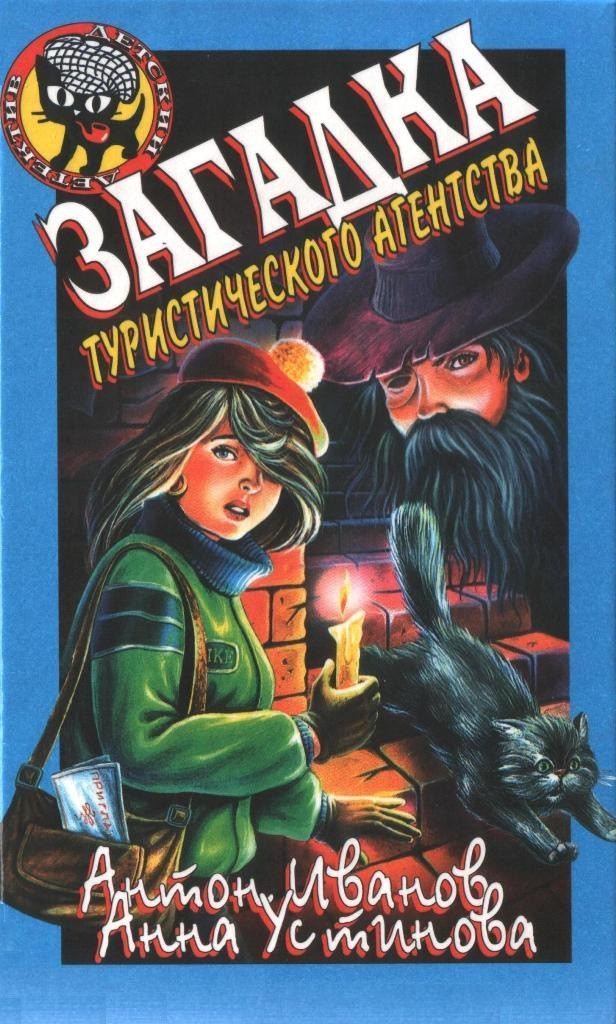
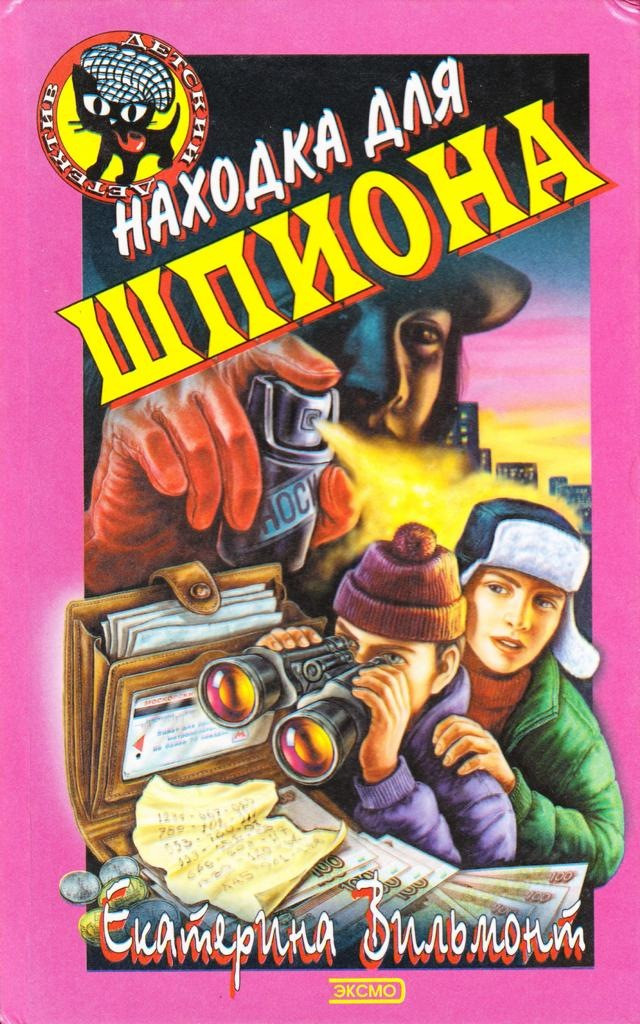
Детективы из этой серии можно условно разделить на иностранные и отечественные, и если в детстве подход к тексту волнует отнюдь не в первую очередь («читать то, что дают/советуют в библиотеке»), то уже в осознанном возрасте первые на поверку оказываются менее увлекательными при перечитывании. Во-первых, герои на несколько лет младше, чем российские, что значительно сокращает спектр допустимых замыслов. Герои немного карикатурны и даже топорны: диалог превалирует над действием и пытается выразить собой функции действия после роковой замены. Во-вторых, сюжет замыкается сам в себе и практически не граничит с эпохой, культурой, внешними объектами. Признаки времени вымываются, и трудно определить, в каком десятилетии и в какой стране развиваются события. Это не плохо (детективы были и остаются замечательными) — но не душеспасительно.
Иностранные и российские детективы «Чёрный котёнок» роднит то обстоятельство, что писательницы и писатели не обращаются к собственным персонажам и аудитории свысока, всегда говорят на равных. Это влияет и на расположение читающих людей, которые моментально отсеивают любую неправду. Тем паче, что знакомая интонация усиливает тождество прочитанного и реального. Не только поколение 90-х и 00-ых, но и сегодняшние подростки едва ли озабочены вопросом абсолютной достоверности сюжетов, в которых подростки 13-14 лет, зачастую одноклассники и закадычные друзья, спасают Россию и бьют негодяев, пока милиция прохлаждается неизвестно где, а взрослые лишь качают головой и не могут ничего предпринять, потому что сутками торчат на работе. Юные герои, среди которых и мальчишек, и девчонок поровну, помогают радикальным образом — на сантименты сил фактически не хватает. В фильме «Упырь» (1997) юная героиня без лишних вопросов выхаживает не то бандита, не то праведника с особой земной миссией, и безмолвность её происходит не столько от слабости, сколько от животворящей выносливости. Доходить до самой сути в такое время, место и пешком — совсем гиблое дело, крутые люди ездят на «Мерседесе» или джипе «Чероки» и способны опередить. Время в детских детективах раскладывается в зависимости от текущих приоритетов: когда расследование на первом месте, когда герои живут свои будничные жизни в попытках отвязаться от пакости (конечно же, тщетных), когда с человеком приключилась болезнь и бабушка читает книжку вслух, пока он или она медленно падает в царство Морфея. Расследование занимает несколько месяцев или двое суток, но итоги обычно превосходят все ожидания, тем более, что сыщицкий путь, ровно как и путь самурая, важнее, чем цель.
В 12 лет знать, как работают жучки и
Преимущества безопасности в детских детективах рождаются вопреки: когда любимых героев и героинь запирают в квартире у жуликов, дают чем-то тяжёлым по кумполу, выслеживают денно и нощно, читающим в реальной жизни остаётся либо отгородиться (и учиться искусству быть смирным у родителей под боком), либо идти напролом, но со светлой головой.
Чем занимаются герои и героини помимо своей сыщицкой деятельности? Как и все: ходят в театр, кино, кафе-мороженое, сидят на тёплой кухне, листают музыкальные журналы. Детские детективы изобилуют встречными именами и понятиями, но без фанатизма, что позволяет читающим окунуться в эпоху и родственные интертексты на минимальном уровне. Перестроечное кино категории Б, группа «Агата Кристи» и
В постсоветской культуре также возрождается тяга к народной словесности, фольклору, который долгое время выдавливался в своей несменной крестьянской традиции и подменялся искусственным, выхолощенным фольклором советской эстрады. Во время паломничества по монастырям школьники активно собирают пословицы и поговорки, в интересах следствия зачитываются этнографическими исследованиями, впервые сталкиваются с иным наследием. Летние декорации зачастую служат вдохновением для поиска сокровищ в пыльной поселковой библиотеке, на берегу реки, в соседней деревне. Примечательно, что клад не абстрактного свойства: обычно это дореволюционная загадка бежавших или погоревших дотла дворян, завязанная на отношении оных с нынешними старожилами местности. Войны, репрессия, эмиграция, репатриация, религия — темы, о которых принято говорить с придыханием, но детским детективам такой подход чужд.

В фильме «Поклонник» (1999) энергичная девчонка 13 лет от роду знакомится с местным маньяком и требует, чтобы тот исполнял все её желания: достать роликовые коньки, подышать в трубку, свернуть шею врагине. Девочка часто оказывается физически сильнее таинственного друга, находящегося на промежуточной стадии между нуаровским курильщиком в шляпе и Чёрным Ловеласом, но это обстоятельство можно списать на общую для всех чёрнокотёнковскую силу, иногда сомнительную, но всегда обусловленную временем. Враг в детском детективе — это не карикатурный персонаж, появляющийся номинально, как стихия, противопоставленная добру. Это подробно прописанный герой со своей историей, внешними признаками и речевыми особенностями. Чаще всего это мужчины средних лет или подростки, но без
Чёрнокотёнковские перипетии, жизненно хлёсткие или на грани полуправды, никогда не удивляют наших подростков. Пожалуй, это ещё одна особенность, благодаря которой поколения проходили предварительную подготовку к взрослой жизни, сами того не ведая. Девочки и мальчики, которые в своё время смаковали истории Е. Вильмонт, А. Иванова и А. Устиновой, В. Гусева, Н. Кузнецовой и других, никакому условному «Грузу 200» не удивятся — просто оттого, что их тогдашние примеры для подражания, пускай и книжные, были не из робкого десятка. Таким образом, читающие, подстраиваясь под восприятие своих сверстников, и сами чувствуют себя чуточку взрослее, сильнее, разумнее.
«утекай, в подвоpотне нас ждет маньяк,
хочет нас посадить на крючок.
<…>
остались только мы на paстерзание,
парочка простых и молодых pебят»
