Александр Сахаров. Humu saqina
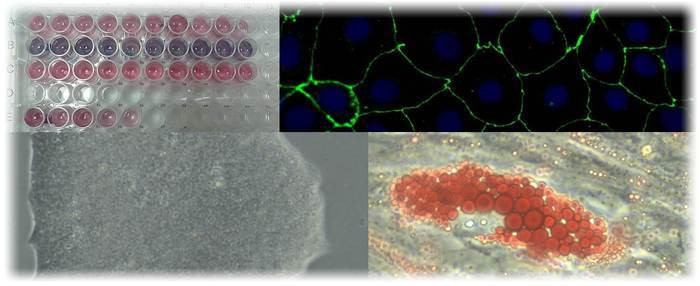
Сказка о городе добрых людей
Есть где-то
Раз пришли в город другие люди. Они много чего повидали в дороге, пообтерлись, на долгом своём пути познали и лишения, и борьбу, и предательства. Добрые люди подобрали их голодными, уставшими, замерзшими. За сытным ужином в тёплом доме их главарь спросил старейшину города добрых людей:
— Правда, что у вас все здесь любят друг друга?
— Правда.
— И никто ничего не крадет?
— Не крадет.
— И у вас каждую неделю праздник?
— Каждую.
— И не ссоритесь?
— Бывает ссоримся, но обязательно миримся.
— И что, вот правда, у вас все так хорошо?
— Правда.
— Не верю.
И другие люди остались в городе добрых на
— Могу ли я остаться?
— Конечно, работы много, руки всегда нужны.
Девушка сказала другим, что хочет остаться. Главарь тогда ей сказал:
— Разве бывают по-настоящему добрые люди? Они точно что-то скрывают. Останешься тут — пропадешь.
— Почему если мы сталкивались с настоящим злом, то нет настоящего добра? Я им верю.
Главарь махнул на неё рукой и увел своих людей.
Девушка осталась среди добрых людей, работала в поле, ходила на праздники, и, со временем, сама стала добрым человеком. А где теперь другие люди никто не знает.
рассказ подруги
Я сегодня пила чай с Богом,
Жаловалась на мать.
Он молчал.
Может потому что у меня никогда не было отца.
Я сегодня пила чай с Богом,
Жаловалась, что ничего не успеваю.
Он молчал.
Может потому что на самом деле мне все осточертело?
Я сегодня пила чай с Богом,
И когда собралась уходить,
Он вдруг ответил:
— Подожди, у меня миллион дел,
Но Я побуду с тобой подольше.
Я знаю, что тебя волнует.
У тебя есть один друг,
Я знаю, что тебе нужно ему сказать.
И мы говорили с Богом час,
Это был чудесный разговор.
Я увидела, что все шире,
От него я сразу пошла к тебе,
Мне есть, что сказать тебе, ведь
Бог сегодня пил чай со мной.
3Цар 19:12
Бог огромен в тишине своей поступи
он приходит лёгким ветерком
толкает в плаванье кругосветное
нет ничего страшней его молчанья
мы без него так отчаянно случайны
он нас рифмует сам с собою
чтоб мы нашли его нечаянно
схватить я не смогу его величье
лишь край одежды
надеждою
Humu saqina
и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф.
Захария 1:3. Синодальный перевод
Не будьте как ваши предки, к которым взывали прежние пророки: “Так говорит Господь сил: Отвернитесь от своих злых путей и скверных обычаев”, а они не слушали и не внимали Мне, — возвещает Господь.
Захария 1:4. Новый русский перевод
От автора
Название христианского постмодернистского романа «Humu saqina» — это перевод выражения argumentum ad antiquitatem (лат. апелляция к традиции — разновидность логической ошибки) на кечуа, один из языков древних инков. Роман представляет собой постмодернистский пастиш, коллаж, где смешиваются как художественные произведения, так и реальные исторические события, с чем связано обращение к метафоре кипу. Кипу — сложная счетная система инков, представляющая собой сплетение веревок и узелков из шерсти лам или альпак. Основным источником материала для романа послужила «Война и мир», однако, также есть отсылки к творчеству других классиков, описаниям быта древних инков и т.д.
Как известно, изначально в замысел Толстого входил роман о возвращении с каторги старого декабриста, однако позже он сосредоточился на событии, сформировавшем поколение декабристов — Отечественной войне 1812 года. В романе Humu saqina описывается никогда не происходившая Калифорнийская война между Инкской империей и Японией, которая представляет собой концентрат русской истории — война 1812 года сливается с Крымской ирусско-японской войной, Октябрьская революция с восстанием декабристов и т.д…
Также важно, что место действия — альтернативная реальность, пространство компьютерной игры Sid Meier’s Civilization IV, где игроки управляют существовавшими в реальности цивилизациями в случайно созданном мире.
Александр Сахаров
От переводчика
Как переводчику книги мне выпала честь написать это обращение к читателю. В первую очередь, от лица всего Кусковского Художественного Музея я хотел бы поблагодарить вас за посещение выставки Фердинанда Родригеса, а также за покупку этой брошюры.
Оригинальный текст романа Humu saqina, написанного Фердинандом Родригесом, был сплетен в традиционной технике древнего письма инков — кипу, на классическом кечуа. Кипу — сложная письменная система, представляющая собой сплетение веревок и узелков из шерсти лам или альпак. Это первое крупное произведение, написанное в технике кипу за последние 150 лет, а также самое крупное — сплетенные вместе 15 кипу (если считать вместе с прологом и эпилогом) имеют длину 374 метра. Этот перевод с кечуа на аймара осуществлялся специально к выставке романа.
Родригес повествует о судьбе футуриста Теодоро Уму-Туллу, прозванного современными исследователями «летописцем инкского авангарда». Изначально в замысел Родригеса входил роман о возвращении Теодоро Уму-Туллу с каторги, однако позже он сосредоточился на молодости своего героя и ключевом событии, пришедшемся на это время — Калифорнийской войне. Все участники событий, упоминаемые в книге — реальные лица, характеры и быт которых восстановлены на основе дневников, писем и официальных документов.
С сожалением констатируем тот факт, что точный перевод этого произведения на какой бы то ни было язык невозможен. Ни один язык мира не способен передать ряд изобразительных средств кипу. Например, Родригес, вырисовывая образ Теодоро Уму-Туллу, использует резкие узлы, постепенно усиливая их жесткость. Однако в переломный момент жизни героя Родригес начинает делать акцент на большей свободе узлов.
Конечно, я как переводчик пытался найти способы передать особенности стиля автора. Однако придется всё-таки смириться с тем фактом, что этот текст выходит за рамки перевода и приближается к грани самостоятельного произведения. Тем не менее, перевод следует воспринимать скорее как либретто, написанное менее талантливым литератором на основе произведения великого художника.
Алехандро Вакра
Кипу прологовое
В 5852 году Теодоро Уму-Туллу, который тогда был молодым историком, преподавателем Кусковского университета, отправился в экспедицию по Западной пустыне. Теодоро был настоящим романтиком португальского толка: тело молодого красивого юноши было тюрьмой для духа разочарованного в жизни старика. Длинные черные волосы, вздернутый нос, необычно резкие для инки скулы, казалось, были срисованы с иллюстраций греческих романов 20-х, 30-х гг.
Его отец, господин Уаман Уму-Туллу, отказался выделить на экспедицию денег. Тогда Теодоро продал принадлежавшую ему часть родового имения, покинул отцовский дом и его миндальные сады и купил небольшую квартирку на окраине Куско. После этого без разрешения господина Уму-Туллу Теодоро отправился в инкскую Калифорнию, с вырученными от продажи имения деньгами. В желтых газетах тогда писали, что сын метившего в ректоры декана исторического факультета продал все имение отца и сбежал с деньгами в четвертую провинцию Инкской империи, чтобы там растратить их на игру в карты и девиц. Уже в столице провинции, сейчас вернувшей себе прежнее название Сакраменто, тогда же называвшейся Атун-Калифорния, с прорвой денег проходя мимо множества казино и уличных дам, Теодоро заходил во все попадающиеся пабы, кабаки, ни в одном не заказав ни рюмки, и готов был посетить каждый в городе, если бы на половине пути не нашел того, что искал.
Чувствуя себя капитаном пиратов из египетских романов конца XVIII века, ищущим для себя команду, он посетил Калифорнийский порт, где познакомился с работниками своей будущей экспедиции. Это была артель техасских шахтеров. Узнав, что те раньше разрабатывали месторождение в каньоне Калифорнийской пустыни, но предприятие разорилось, и теперь они работали грузчиками в порту, Теодоро предложил каждому из них виски. Джон, пятидесятилетний старик, бывший бригадир артели, ответил, что они не пьют, что только обрадовало и обнадежило Теодоро, и он рассказал им о своем плане, и за два месяца экспедиции пообещал каждому гонорар, который американский рабочий получал за год. Джон сказал своим парням: «“Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?” Не унывайте, поблагодарите Господа, он услышал наши молитвы, наши семьи не будут голодать!»
Вскоре команда пересекла границу Западной Пустыни. Недели в пути, когда группа была чуть не уничтожена песчаной бурей, когда в условиях экономии воды моча путешественников стала чёрной, когда на экспедицию напали змеелюди и команде, лично Теодоро пришлось отстреливаться… И суровая борьба с природой увенчалась успехом. Теодоро вернулся в
Кипу первое
Помните ли вы ответ на детскую загадку: когда день сменяется ночью? Вечером, скажете вы. Но вот когда день сменяется вечером, а вечер ночью? На этот вопрос ответа в загадке уже нет. Может быть с закатом?
Закат завораживает. Когда и почему Инти решает, что ему пора отвлечься от правления над землей на более мелкие дела и отворачивается, когда и почему боги прекращают свою вечернюю трапезу и стряхивают со стола блестящие крошки? Тайны богов человеку неведомы, поэтому ему остается только смотреть, как по неизвестной причине сгорает божественное золото, плавится, растекаясь повсюду красными ручейками, ждать окончания ночи, начала утра.
Теодоро Уму-Туллу вернулся в родной Атун-Куско из египетской экспедиции утром, однако подъехал к стенам университета только к закату. В тот день он описал в дневнике необыкновенно красивый красный закат, от которого казались красными даже золотые стены университета.
Пока Теодоро ехал, взбудораженная знойным климатом пустыни кровь остывала. Он приобретал прежний холодный и хмурый вид, и это при том, что он ещё даже не успел переодеться из подаренного американцами пончо в сюртук. Привычное выражение лица с тесно сжатыми губами и нахмуренными бровями стало возвращаться уже тогда, когда он с привычной скукой получил приветствие от своей страны в виде бюрократической волокиты на границе и ужасных дорог. Привычный степной пейзаж только нагонял ещё большее ощущение скуки. Единственное, что радовало Теодоро, это то, что теперь он мог, наконец, вернуться в свой кабинет, закрыться от выскакивающих отовсюду надоедливых знакомых, которые интересовались результатами экспедиции и которым он уже устал повторять, что находки ещё требуют дальнейшего изучения. Он представлял, как сядет на свой стул, за свой стол, нальет виски в свой стакан и уйдет с головой в работу, подальше от всех этих тоскливых приятелей.
Теодоро вышел из кибитки перед главным зданием университета. Блеск золотых плит, которыми были обложены три стены университета, слепил. В
У стены стояли двое служащих при университете шудр в помятых робах: они счищали со стены ветошью красное пятно.
Теодоро принялся доставать из кибитки ящики с находками, и к нему подошли те двое шудр.
— Зачем вы грешите, брахман? Скажите, что в ящиках?
— Кости, — пояснил Теодоро.
— Гробы… — прошептал другой шудра, и оба ушли прочь.
К телам умерших и гробам должны были прикасаться лишь парии. Но привыкший в экспедиции трудиться наравне с белыми Теодоро лишь рассмеялся и продолжил разгружать ящики. Вскоре из окна университета он услышал крик амаута Авака, ранее руководившего выпускной научной работой Теодоро:
— Постойте! Постойте!
И уже через минуту, когда Теодоро выгружал из кибитки последний третий ящик, амаута появился на улице.
Авака умел двигаться со сверхчеловеческой грацией: он был чрезвычайно быстр, что в совокупности с ловкостью, тихой поступью и знанием территории кампуса позволяло ему незаметно и неожиданно появляться в любом месте университета, будто из воздуха. Такой же отличительной его чертой была аккуратность: какими бы резкими ни казались его движения, сюртук никогда не был помят, и он никогда не забывал накрахмалить воротник, надеть белые перчатки и тяжелые золотые серьги.
Амаута задал Теодоро такой же вопрос, как и шудры, на что тот так же кратко ответил: «Кости».
— Грех, грех… Грех! — растерянно повторял амаута. — Почему вы не наняли парий?
— Не волнуйтесь, я уже привык.
Пока Теодоро расплачивался с кучером и подносил ящики ко входу в здание, амаута наблюдал за ним.
— Вы, наверное, устали с дороги? Не хотите ли вина? Я запас бутылку «Фиванского» к вашему триумфальному возвращению.
— Честно говоря, я бы предпочел рюмку хорошего виски, — вежливо отказался Теодоро.
— О, вас приучили к этому американцы?
Авака придерживал двери, пока Теодоро осторожно затаскивал в проём ящики. Слава Виракоче, они были не тяжелые, а кабинет Теодоро располагался на первом этаже. Вскоре ящики уже лежали в кабинете Теодоро. Авака встал у стены, внимательно глядя на гробы, загородив портрет Уайны Пуруна, которого Теодоро вслед за отцом называл единственным настоящим инкой. «Не загораживайте, господин Авака», — думал Теодоро.
Авака хотел прикоснуться к крышке одного из гробов, но Теодоро спросил его:
— Скажите, амаута, почему вы решили помочь мне выгрузить ящики, придержали дверь?
— Что? О чём вы? — спросил амаута.
— Вы самый благочестивый брахман, которого я знаю. Почему же вы помогли мне с ящиками?
— Как же, дорогой мой… Вы были моим лучшим студентом. Это не только вежливость, но и проявление искреннего уважения к вам. Если гипотезы вашей ячапанской работы подтвердились, то вскоре вы получите и степень амаута.
— Я не понимаю, почему вы не боитесь закона.
— Разве вы перевозите, что-то запрещённое? Ведь Египет снял запрет с перевозки вещей из Западной пустыни… — всё ещё не понимал Авака.
— Я говорю о высшем законе.
— Ах, буду честен с вами. Мысль о возможности прикоснуться к
— На это нечего возразить, — согласился Теодоро.
Амаута все не уходил, жадно глядя на гробы. Теодоро достал из ящичка стола бутылку виски и налил себе.
— Вам я не предлагаю, как я понял, вы не любите виски, верно?
Амаута заулыбался:
— Да нет, что вы, я бы совсем не отказался от стаканчика.
— Простите, но у меня всего один стакан.
Амаута раскраснелся от злости.
— Вы думаете, я ничего не понимаю? Если лягушек из архива легко провести, то я понимаю, что ваша гипотеза оказалась верна! Неизвестный народ, живший в Западной пустыне! Я приложил столько усилий, чтобы вы смогли поехать, а вы хотите оставить себе все лавры!
Теодоро хотел рассказать Авака о находке, когда был в дороге, но теперь понял, что не сделает этого. Теодоро молчал, лишь отпил виски из стакана, пока амаута говорил.
Авака успокоился и сказал:
— Простите, Теодоро Уаманович, но после этой экспедиции у вас вряд ли останутся друзья в университете. Не все наши коллеги смогли воспитать в себе добродетель великодушия, и вряд ли как я примут тот грех, что вы совершили. Поэтому всё, что я сейчас говорю, продиктовано лишь заботой о вас.
— Спасибо, амаута Авака. Однако я замечательно обучен, и уверен, что мне нет необходимости утруждать вас излишней опекой надо мной. Я — брахман, ячапа и вполне способен на самостоятельное исследование. Благодарю вас, за вашу поддержку, — Теодоро приподнял стакан в направлении амаута и допил виски.
Авака развернулся и, ничего не говоря, растворился в коридор университета.
Теодоро убрал стакан и бутылку, оперся головой на руки, протер ладонями глаза и лицо. Как же хорошо, что он догадался написать в документах на таможне лишь, что нашёл останки воинов, не указав, откуда были эти воинов. Иначе кто-нибудь вроде амаута Авака уже нашел бы лазейки, как отнять у Теодоро его открытие.
Теодоро достал свой журнал для записей и открыл первый ящик.
Кипу второе
Спустя несколько часов Теодоро оставил работу и отправился навестить своего отца, амаута Уму-Туллу. На входе в дом, он увидел несколько карет, и догадался, что его отец собирает вечер. Грех Теодоро ложился на плечи всего айлью, так что амаута Уму-Туллу вряд ли хотел бы видеть на этом вечере сына, только что вернувшегося из скандальной экспедиции. К тому же он всё ещё был одет в пончо, ему стоило бы уехать, но родные стены, родной запах сада… Вдруг отец уже простил его? Или простит вскоре?
— Добрый вечер, ячапа Уму-Туллу! О, вы так загорели в Египте.
— Спасибо, госпожа Капак. Не волнуйтесь, вам к лицу бледность, которую придаёт наш холодный климат.
Госпожа Капак была матерью набирающего популярность в парламенте либерального кечуа Кристиана Капака. Она принадлежала к древнему айлью, восходящему корнями к семье императора. Она была одета в богатое платье, сшитое по последней моде: длинная и широкая кринолиновая юбка была обита бахромой, ленточками, лиф украшен бисером, горизонтальный вырез открывал бледные плечи и
— Да, к сожалению, такой даме как я совсем невозможно отправиться в такое же путешествие, — Теодоро заметил лукавую улыбку госпожи Капак. — Вы должны рассказать обо всем в подробностях.
Теодоро заметил, как изменилось к нему отношение госпожи Капак. Если раньше, пока тот жил в отцовском доме, она заискивала перед ним, постоянно просила передать что-нибудь отцу, то теперь в её словах, взгляде, жестах читалась саркастическая удовлетворённость изможденного достоинства от превосходства над слабым, потерявшим вес в свете человеком.
— Конечно, — ответил Теодоро и прошёл в дом вслед за госпожой Капак. «Решено. Нужно остаться, иначе оскорблю гостей отца». Удивленный шудра на входе хотел забрать у него пончо, но он отказался.
Теодоро на балах предпочитал беседам и танцам игру или ее наблюдение, но понимал, что сегодня у него вряд ли получится к ней приступить. Сегодня госпожа Капак соберёт вокруг него толпу из вопрошающих и интересующихся, и ему придется сказать много лишнего, ведь лишним является уже его присутствие.
И действительно, как только он вошёл, на него тут же обратились взгляды всех гостей, внимательные, ожидающие. Теодоро смотрел мимо них, надеясь встретить в зале отца, но его не было. Тогда Теодоро хотел пойти к столу, где играли в карты, но госпожа Капак взяла его под руку и пригласила на диван. Он сел рядом с ней, их тут же с бряцаньем золотых серёг со всех сторон окружили сюртуки и кринолины.
— Думаю, все хотят услышать о вашем путешествии на запад, Теодоро. Не поделитесь с нами? Как вам местный климат? — спросила госпожа Капак.
Позади Теодоро стоял Кристиан Капак, по меткому выражению одного из газетчиков, имевший лик статуи древнего бога войны. Когда мадам Капак проводила Теодоро на диван, от Кристиана ушла часть слушателей и слушательниц, и тогда Теодоро заметил в его взгляде нотку зависти. Но было и ещё
Теодоро стал думать, как бы ему отвязаться от слушателей. Он попросил виски у проходившего мимо официанта и начал рассказ:
— Как и можно было ожидать, в пустыне очень жарко. Честно говоря, по возвращении я даже не хотел надевать любимое пальто, а только стоять в поле обдуваемый ветрами. Моим работникам-американцам было особенно тяжело.
— А какова была цель вашей экспедиции?
Теодоро решил постараться рассказать всё как можно скучнее, надеясь, что тогда толпа разойдется, а потому отвлекся на рассуждение о древнеегипетском фольклоре, о роли образа дракона в египетских былинах мадридского цикла…
— Но как же вы тогда оказались в Западной пустыне? — прервала его госпожа Капак.
Теодоро продолжал говорить об отвлечённых вещах. С удовольствием отметив, что половина сюртуков и кринолинов отошла назад за диван к Кристиану, Теодоро продолжил:
— Итак, в ячапанской диссертации я сформировал предположение, что ранее гунны, след которых потерялся в истории после похода Рамзеса II в Португалию, продолжили своё существование в Западной пустыне. На поиски следов их пребывания там и была направлена моя экспедиция. Значение этой гипотезы для истории Древнего мира состоит в том, что…
Теодоро продолжал и гости постепенно расходились прочь от дивана. В конце концов осталась только госпожа Капак, которая прервала Теодоро и задала ему вопрос, который он ждал с тревогой, так как совсем не хотел отвечать на него:
— Подождите, но каковы же итоги вашей экспедиции?
Теодоро замешкался.
— Боюсь, что не смогу ответить. Поймите, я учёный, а не проповедник или политик. Мне не нужен шум вокруг моей работы.
— Вы уверены, что ваша работа вызовет шум? Вы нашли что-то революционное? Что вы нашли в Западной пустыне? — настаивала госпожа Капак.
Теодоро растерялся
— Ох, нет, что вы, ничего революционного, могу сказать со всей уверенностью, — он направился к столу, где играли в покер, но его хотели остановить новым вопросом. Спасло Теодоро возвращение отца из винного погреба: амаута Уму-Туллу подбирал новые вина для гостей. Он обхватил за плечи идущего к покерному столу сына и громко сказал:
— О, мой любимый сын вернулся! Нам нужно о многом поговорить после столь долгой разлуки!
И отец отвел Теодоро подальше и от госпожи Капак, и от стола с игрой.
— Почему ты здесь? — спросил Теодоро отец. Тот, не зная, что ответить, хватал ртом воздух, но отец продолжил. — Я надеялся, ты поймешь сам, что тебе больше не рады в этом доме. Больше не заговаривай ни с кем о своей экспедиции. Иди, поиграй в покер, выпей виски и уезжай. Прошу тебя, не начинай соблазнов.
Теодоро хотел объясниться, но отец не дал вставить и слова и отошел к госпоже Капак:
— О, госпожа, как же ваш сын Кристиан, правда ли, что он скоро объявит о своей свадьбе? И кто же невеста?
Получив от официанта виски, Теодоро залпом выпил стакан и, взяв ещё один, направился к покерному столу, где как раз не хватало пятого игрока. Для игры нужно было внести 1 000 медных мульу, треть заработка ячапы в университете Куско, но Теодоро и не думал отказываться. Он собирался сыграть разок, а потом незаметно и вежливо уйти. Но на самом деле хотел выиграть, захмелеть и транжирить выигранные деньги весь вечер, в свое удовольствие и назло отцу.
Теодоро получил свои фишки, и
В первой раздаче получив десятку и двойку, мусорные карты, Теодоро сбросил.
— Вы уже слышали о последнем решении португальского Сената? — спросил, сбрасывая свои карты, молодой брахман Тупак Амару.
— Буквально час назад прочитал об этом в газете! Португальцы всё-таки приняли поправку о свободе вероисповедания, — сказал Кристиан.
Следующая раздача, и Теодоро вновь пришли десятка и двойка, уже другой масти, он с большим трудом сдержал удивление, и опять сбросил.
— Тем не менее, они отдаляются от нас. Португалия не поддержала предложение о мирном договоре с американцами, — продолжал Амару.
— Им сейчас слишком выгодна эта война, они пытаются вернуть себе американские земли уже более ста лет. К тому же мы сами участвовали в развязывании этой войны… Но Инкская Империя связана с Португалией и Египтом верой. Между нами никогда не было войн, нам не о чем волноваться. Союз остается крепким, — возражал ему Кристиан.
— Всё изменилось. Вы судите о Португалии и Египте по собственным воззрениям сидианина. Единства в сущности уже нет. Императоры Португалии и Египта уже предали нас, и реформу о свободе вероисповедания они могли принять, только рассчитывая заручиться поддержкой стран-иноверцев, среди которых мы имеем врагов, — далее Амару произнес афоризм, который через воспоминания современников оставил его имя в народной памяти. — Если 5-го сентября империя умерла наполовину, то теперь погибла совсем, — видя, что никто не придал этим пророческим словам значения, Амару махнул рукой. — Давайте играть.
Когда Теодоро получил новые карты, ему вновь пришлось напрячь все мышцы лица, чтобы не улыбнуться и не начать оглядывать других игроков. Два туза, два красавца, бубновый и червовый. Все игроки сбросили, кроме Кристиана Капака, который пошел ва-банк. Положение Теодоро в игре казалось было идеальным, он расслабился и даже улыбнулся, отпил из стакана и подвинул в центр стола фишки, выложив на стол двух красных тузов.
Капак покачал головой и громко цыкнул, выложив на стол двух валетов. Теодоро нахмурился, так как его положение оказалось гораздо более шатким, чем он думал.
— Не расстраивайтесь, — сказал Амару Кристиану.
Крупье выложил флоп, и все ахнули: на столе оказались червовые девятка, десятка и валет. «Так и знал», — подумал Теодоро и оперся руками о стол. Когда на терне появилась крестовая дама Теодоро судорожно считал: любая черва, король или туз — он забирает банк, восьмерка — и он избегает поражения, банк делится пополам. Еще есть шанс… Но на ривере крупье выложил девятку пик.
— Фулхаус! — удивился Амару.
— Досадно, — покачал головой Теодоро и допил виски.
— Да, раздача оказалась напряжённой, — кивнул Кристиан, забирая фишки.
— Не хотите докупить, господин? — спросил крупье, но Теодоро отказался и отошел от стола, услышав от Кристиана: «Куда вы, Теодоро!»
Теодоро направлялся к парадной, но его остановил только что зашедший Пабло.
— Здравствуй! Как я рад тебя видеть! Ты слышал последние новости? Мои стихи опубликовали в «Мире литературы»!
Теодоро любил Пабло, но сейчас не хотел ни с кем говорить. Пабло был сыном садовника-испанца господина Уму-Туллу. Подростками они играли вместе. Пабло был мальчиком тихим, одновременно странным, дурашливым. Они дружили и до сих пор.
Совершенно внезапно в нем обнаружилось литературное дарование. Только вчера Пабло мыл тарелки на кухне у отца Теодоро, а теперь отец потчевал им как десертом своих дорогих гостей, показывая, что стал меценатом и вкладывает деньги в ценные дарования. Больше всего Теодоро ценил в Пабло, что тот так и оставался простым, вот и сейчас он пришел на бал в самом простом старом залатанном сюртуке, который носил на праздники еще отец Пабло, и с книгой под мышкой.
— Это правда большое событие, я очень рад, — искренне сказал Теодоро и пожал Пабло руку. — Какие же стихи?
— Немного лирики… Ещё я переписал тебе первый отрывок той самой поэмы, посмотри как она… — Пабло ударил себя по лбу. — О, прости, что я так с порога! Как твоя экспедиция?
— Ох, давай поговорим, о ней в другой раз, я очень устал… В общем и целом могу сказать, что моя гипотеза не подтвердилась, но я всё равно собрал
— Чертовски интересно! А ты…
Пабло прервал подошедший сзади отец Теодоро:
— О, а вот и пришла наша звезда! Пабло Гарсиас! — отец Теодоро подошёл ближе и показал Пабло свободное место на диване.
— Возьми журнал, — Пабло протянул Теодоро томик. — Я думал оставить его у господина Уму-Туллу, но раз ты здесь…
Пабло отвели к гостям. Теодоро, умыкнул со стола бутылку виски и пошёл прочь из дома отца.
Кипу третье
Любимый Петро,
ты вновь обижаешь меня. Ты опять пишешь ко мне, как старый бухгалтер равнодушно пишет о делах, на вы, кратко и сухо. Почему, почему ты стыдишься меня? Понимаю, когда ты стесняешься меня в компании друзей, когда я беру тебя за руку или обнимаю — ведь ты ведешь их, ты — их Прометей, показывающий им путь из пещеры к свободе. Ты их сильный, твёрдый лидер, небожитель, вознесшийся Геракл. Мне кажется, что тебе стыдно, что рядом с тобой маленькая я, кажется, тебе стыдно быть человеком. Может поэтому ты не написал ни одного стиха о любви?
Может быть, это изменится когда-нибудь. Я готова ждать. Но в будущем, в письмах, пожалуйста, не стыдись меня, будь со мной искренен. Со мною рядом ты можешь побыть земным человеком. Я приму тебя, я бы любила тебя, будь ты даже лягушкой.
Сегодня я весь день думала, что для меня значишь ты, и я вспомнила маму, каким был папа, пока она ещё была жива, каким был дом…
Я вспомнила тот праздник Солнца, когда мне было шесть лет. Все тогда были светлые, чистые.
Была ещё жива нянюшка. Она учила меня азам служения Солнцу. Тогда я слушала её с разинутым ртом. Она, казалось, знала всё: когда собирать урожай, на какой праздник подавать дикую утку, на какой готовить маисовые лепешки, на какой альпаку… Она рассказывала сказки о звездах, Солнце и животных. Я особенно любила ту сказку об умной ламе, которая научилась мудрости у Виракочи, и обучила божьему закону своего хозяина.
Нянюшка была уверена, что я пойду в Девы Солнца. Я и сама тогда этого хотела, служить в храме, помогать сирым и убогим… Только представь, что было бы, если бы я правда пошла в храм, если бы обрезала свои волосы, которые ты так любишь, оставив только челку, как у тех старых уродливых служительниц. Полюбил бы ты меня такой? Сейчас стыдно за такие мысли перед покойницей. Прости, Ачик, не сиять мне в храме, не согревать калек и нищих, я хочу сберечь свой свет для одного брахмана-преступника.
Жив был и наш кучер-японец. Я не рассказывала тебе, как получила свое имя? Я родилась в месяц Солнца, ровно в день рождества японского бога. Японец радовался, говорил, что это чудо, это знак. Родители хотели назвать меня в честь солнца, всё думали — Илля, Мамаачик или Рава? Да, родители хотели дать мне имя на кечуа. Говорили, что в последнее время стало слишком много испанских имен, слишком много Анн и Алехандро. Хитрый же японец хотел, чтобы меня назвали в честь его бога. И он тогда предложил испанское имя — Нивес, что значит, «снег». Говорил, что это в честь снега, отражающего свет солнца. Родителям понравилось. На самом деле, как он мне потом говорил, что это в честь крещенских морозов. Смешной японец.
Прости, отвлеклась. Тот праздник Солнца. Помню стол: были печёные дикие утки, куропатки с маисом, маринованные грибы, жареные лягушки, улитки, вымоченные в вине… Помню, как шудры все ставили на стол, как всё шипело и пахло, пахло, пахло… Почти императорский был ужин. Помню, как папа встал, начал петь гимн солнцу, а за ним все подхватили. Потом он указал на куропатку, шудры поднесли её. Он начал есть, а потом и гости стали накладывать себе еду. Мой папа до сих пор старомоден.
Помню, какой папа был тогда. Его строгий, но светлый и мудрый взгляд. Он тогда был высок, широкоплеч, занимался ремонтом храмов и университетов с нашей артелью каменщиков. Тогда еще не спился никто из них.
Последней накладывала мама, себе и мне. Ах, как красива она была. Знаю, ты считаешь, что после восемнадцати любая женщина уже старуха, но моя мама, казалось, не старилась совсем.
Помню, как мама, накладывая мне чуньо с уткой, вдруг застыла. Она выглядела испуганной, смотрела прямо перед собой. Я взглянула туда же и увидела. Красавец кечуа, сын полковника. Он смотрел на мою маму с интересом, прямо как ты смотрел на меня, когда мы впервые встретились. Я поняла — моя мама влюбилась — и тоже испугалась. Я встревоженно посмотрела на папу — он мне улыбался, проговорил только губами: «Глупышка». Он ничего не заметил.
Но вскоре стал замечать. Кечуа ходил к нам каждую неделю. Отец стал сутулиться, усыхать, становился злее. Мама к концу месяца, казалось, тоже превратилась в обессилившую старуху.
Знаю, она не грешила против папы. Она любила его, и была целомудренной и законопослушной вайшья. Тем более она боялась за наш айлью, не хотела, чтобы отец пошёл на каторгу вслед за ней, а я стала сиротой. Она перерезала себе вены в ванной в месяц Великой возрастающей Луны. Отец тогда обезумел. Он рвался к телу, его не пускали, когда же он обессилел, то упал в горячке на кровать, метаясь из стороны в сторону, кричал: «Я должен был убить его! Я должен был срезать ей волосы!»
Мне кажется, что он пережил это только телом. Утухавшая месяц душа, казалось, погасла в тот день. Он стал, злой, тёмный, всех стал держать в кулаке. Помню, как уже через пару дней он в первый раз дал мне пощечину, как через год от кнута за сломанное колесо у повозки умер японец. Он стал строгим в аскезе, сёк всех, кто не соблюдал поста и не молился. Помнишь, ты спрашивал, откуда тот шрам у меня здесь на спине? Наконец, скажу — это я съела кусочек утки в пост, когда мне было девять. Сам он постился даже в самые главные праздники.
Все эти восемь лет я жила воспоминаниями о том дне. Я вспоминала маму, и представляла себя там, в чистом, светлом месте. Винила себя, не знаю даже за что. Я хотела уйти отсюда в Девы Солнца, чтобы выбраться из этой тьмы.
Пока не встретила тебя. Ты, демон, со своим демоническим взглядом, меня освободил. С тобой я не здесь, не тогда, я вне… Настолько вне, что даже не могу сказать вне чего, ведь все границы так далеко. Ты явился ко мне в своем красном мундире и показал мне жизнь вне касты, вне предназначения, о, демон!
Вспоминаю теперь, как
Единственное, чего боюсь теперь — что отец найдёт мне мужа. Пока он отказывал всем женихам, думаю, он не хочет отпускать меня, потому что видит во мне маму. Но пройдёт год, два, четыре, шесть и мне будет уже двадцать, я буду уже старая дева… Пожалуйста, скажи, что будешь любить меня и тогда!
Отец найдёт мне жениха, у него не будет выбора. Это единственное, чего я боюсь теперь — оказаться в объятиях другого. Я убью себя, если окажется, что буду принадлежать кому-то кроме тебя.
Пожалуйста, пообещай, что если отец найдёт мне жениха, мы убежим вместе. Я не смогу так жить. Не смогу быть без тебя, жить с другим человеком. И я боюсь за отца, за то, что если нас поймают, то он пойдёт на каторгу… Прости, что я не такая смелая, как ты. Но я люблю его, всё ещё люблю его. Или того, кто раньше был в его теле…
Пожалуйста, я хочу любить тебя всегда, каждую секунду своей будущей жизни. Пообещай мне, что так и будет. Прошу!
Твоя навсегда,
Нивес.
Кипу четвертое
Теодоро проснулся с ужасным похмельем. Голова раскалывалась, ужасно хотелось пить, на полупустую бутылку виски рядом с кроватью было мерзко смотреть. Теодоро налил себе воды, выпил, убрал бутылку в ящик стола с глаз долой. Еще немного полежав, он собрался с силами, оделся и вышел купить листьев коки.
Остановившись у крыльца дома, он загляделся, как соседский мальчик-испанец Неемия, сидя на чурбане, опять рисовал соседскую девочку, румяную, озорную и прыткую. Таких рисунков было уже штук 15. Абрахам Моденский, отец мальчика, говорил Теодоро, что хочет устроить его в художественное училище, показывал его рисунки преподавателям, и те отмечали способности мальчика. Теодоро также видел рисунки, где была та девочка, примитивные, но такие точные. Угловатая девочка становилась очаровательной в том десятке её разных вертлявых настроений, что ухватывал Ниневия, и в каждом рисунке была она, что было ясно благодаря одной точной румяной черте. Мальчик рисовал и соседей, и палаточников на рынке, и кур, и извозчиков. Часто он поднимался на крышу расположенного на вершине холма деревянного барака, где жила семья Моденских, глядя на который Теодоро считал свою квартиру в кирпичном двухэтажном доме хоромами. А Ниневия поднимался и оглядывал с него окраину Атун-Куско, и рисовал, и она переставала быть грязной и окраинной, но становилась местечковой и волшебной, как во сне. Часто мальчик рисовал, как летит над ней. Чудесна греза юного художника!
Теодоро поздоровался с детьми, спустился с холма и, встретив продавца газет, взял у него одну. Заголовок на первой полосе гласил: «Сегодня состоится вторая встреча “Либерально-императорской партии». Теодоро слышал о ней ещё до своей экспедиции, но не смог попасть на первую встречу. Он пролистал газету до статьи о встрече и на бегу прочитал: «Вторая встреча «Либерально-императорской партии” пройдет в императорском театре в… По итогам прошлой встречи председателем клуба, профессором Кай Пача, была утверждена программа помощи малым предприятиям на территории Инкской империи… Гостями встречи будут Кристиан Капак и герцогиня Хепри Фиванская»…
Теодоро зашел в лавку. Продавец-египтянин Джумоук, расплылся в улыбке.
— Здравствуйте.
Теодоро поздоровался в ответ. Ему хотелось поделиться с этим милым человеком радостью от предвкушения перемен, но он постеснялся и только попросил взвесить листьев коки на день.
В лавку зашёл ещё один посетитель, вернее, посетительница. Теодоро сначала не обратил на это внимания, но повернулся, услышав звонкий девичий голос: «Здравствуйте!» и потом уже не мог оторвать от неё взгляд.
Эта была барышня-египтянка. Она подошла к витрине, посмотреть соньюши. Вновь подошедший к прилавку Джумоук также поздоровался и сказал:
— У вас очень красивая шаль, госпожа Селиха.
Барышня мило улыбнулась.
— Спасибо, очень приятно. Она расписана сакурами, я купила её в Японии. Вернулась буквально вчера. Представляете, я плыла обратно на пароходе.
— Пароходе? — удивился Джумок. — Ваши листья, господин.
— Можете, пожалуйста, взвесить еще соньюш? — попросил Теодоро.
— Конечно.
Теодоро слушал её голос, смотрел на её волосы и глаза. Она, казалось, благоухала далекой страной, светилась её солнцем.
— Да, знаете это гораздо быстрее, чем парусник, ведь не нужен ветер. Хотя, мой отец обеспокоен тем, что японцы строят пароходы. Он почему-то уверен, что они используют их против египтян.
— Волноваться не стоит, — решился вступить в беседу Теодоро. — Если Япония атакует Египет, то Инкская империя ударит в ответ и ей придется ввязаться в бой с Непобедимой Армадой. Своя война на море японцами уже проиграна.
— Да, так я и говорила своему отцу, — улыбнулась египтянка.
Теодоро воодушевился и продолжил:
— На флоте главное не техника, а дух, мятежный воинский дух. Именно благодаря ему Непобедимая Армада победила в битве за Барселонский залив.
— Правда?
Теодоро, расплатившись с Джумоуком начал рассказ:
— 5388 год, Египет осваивает Новый Свет. Япония вступает в войну за колонии, и решает провести свой флот через океан. Тупак Юпанки решает помочь братьям по вере и собирает крупный флот против японцев. И вот тридцать первого июля японские корабли идут вдоль Барселонского залива. Инкский флот встречается с ними, но капитаны решают, что атаковать нельзя
Теодоро видел, как сияли её глаза, такого интереса он не видел даже у любимейших своих студентов. Он наслаждался ее вниманием, видом её длинных густых волос, к которым, по инкскому обычаю, ни разу не прикасались ножницы.
— Он приказал своей команде стрелять. Солдаты, горевшие желанием битвы, незамедлительно вступили в бой. Их примеру последовали и солдаты других кораблей. Японцы, не ожидавшие атаки, были смяты. В тот день Непобедимая Армада не потеряла в бою ни одного корабля, если не считать потопленных бурей.
Она внимательно слушала, улыбалась. Теодоро думал о её нежной шее, чуть выглядывающей
— Тупак Юпанки хотел казнить Уайна Пуруна, однако солдаты взбунтовались. Из их криков и пошло выражение: «Казнишь одного, казни и всех нас». Тогда Юпанки придумал для Уайна Пуруна другое наказание — он уволил его из флота, сказав, что так он не сможет выполнять свое предназначение, что страшнее смерти.
— Вы так интересно рассказываете. Я вижу, вы — брахман. Вы преподаете колониальную историю? — ответила улыбающаяся египтянка. — Взвесьте, пожалуйста, ещё соньюши.
— Нет, просто люблю рассказывать о Непобедимой Армаде. Уайна Пуруна — мой предок, — тут Теодоро понял, что сказал лишнее.
— Но как же такое возможно, ведь он был кечуа?
Смутившийся Теодоро объяснил:
— Ещё до битвы в Барселонском заливе Уайна Пуруна был влюблен в Анну Уму-Туллу, дочь первосвященника Куско. По его возвращении у них родилась дочь. Чтобы спасти дочь и Анну, они солгали, что… — Теодоро задумался какие подобрать слова при барышне, — что, он сотворил с ней это против воли, о лжи известно из архивных писем. Так они спасли и свои алью, иначе казнили бы и всех их родственников. Как бы то ни было иронично, но Уайна Пуруна всё-таки был казнен, но не за нарушение приказа, а за смешение каст.
Теодоро боялся, что рассказ об этом и его вид смутит египтянку, но она неожиданно ответила:
— Война, любовь, трагедия… Ах, какая красивая история, она идеальна для романа! Я бы прочла такой.
Из лавки они вышли вместе.
— Я заметила, что ваша газета раскрыта на статье о «Либерально-императорской партии»? Вы собираетесь пойти на встречу?
Теодоро ответил, что да.
— Простите, но вы так и не представились.
— Уму-Туллу Теодоро Уаманович.
— Санера Селиха, очень приятно. Я была бы рада, если бы мы встретились на сегодняшнем вечере. До свидания.
Теодоро также распрощался с Санерой, зажевал листья коки и отправился домой. Теперь мысль о предстоящей встрече клуба стала ещё более радостной. Не зная, что делать с соньюшами, он отдал их нищему на перекрестке.
Возле дома Теодоро встретил шедшего на работу отца семейства Моденских. Они пожали друг другу руки и Абрахам отметил:
— Вы особенно лучисты сегодня, будто бы влюблены.
Теодоро рассмеялся и подтвердил его мысль:
— Да, встретил чудесную барышню, — только потом эгоизм радости Теодоро спал, и он заметил в Абрахаме Теодоровиче странную печаль. — А что случилось у вас? Чем вы так опечалены?
— Мой племянник сгорел вместе со своей лавкой в
— Я страшно соболезную вам. Жандармы ничего не нашли?
— Боюсь, что жандармы могут быть и сами причастны. Он писал, что ему угрожали. Мы говорили ему уехать, но он не послушал. А нам ещё год только, Неемия подрастет, его можно будет отдавать в училище, подкопим денег… уедем в Египет, может быть там будет лучше. — Абрахам Теодорович бросил взгляд на газету в руках Теодоро. — Приятно, что вы ещё надеетесь. До скорой встречи, Теодоро Уаманович.
— До встречи, Абрахам Теодорович. Соболезную.
Они откланялись друг другу, и разошлись. Поднявшись к себе, Теодоро почувствовал стыд за свой рассказ о войне для Санеры. Тогда он чувствовал запал и азарт, а теперь он вспомнил, как в ужасе отбросил револьвер, когда упал с лошади один из напавших на экспедицию змеелюдей, сражённый тремя выстрелами Теодоро…
Надеясь отвлечься от этих мыслей, он взял «Мир литературы», подаренный Пабло. Теодоро нашёл стихотворения своего друга-испанца. Увидев его имя над названием цикла «Цветы», Теодоро испытал гордость за друга, но начав читать, Теодоро всё больше хмурился: в подборке не было ни одного его любимого стихотворения Пабло.
Один из стихов прилагался в виде кипу, прикрепленного к корешку:
Сменить уже пора
Прелестные вчера
Увядшие цветы,
Красивые мечты.
Тебе дарил их сколько?
Себе оставил только
Лишь сакуры цветы,
Отцветшие, пустые.
Твоей красы брильянт
Возьмет другой; другая,
Дарить цветы встречая,
Оценит мой талант.
Розовый, белый цвет, лёгкие стежки казались Теодоро слишком наивными, вторичными. Где та чудесная чуткость и тонкость, магический загадочный абсурд других его стихотворений? Теодоро почувствовал, что подустал, голова снова заболела. Но щека уже занемела, скоро пройдёт головная боль, и он взбодрится. Он пропустил несколько стихотворений и достал
Церква
I
Первая часть в стиле былины.
Во краю людьми неизведанном,
Во владеньях князя князей небесного,
Под землей богатства скрыты многие:
Драгоценные каменья, уголь черен.
И леса в краю богаты пушниною,
И земля чернозёмом богата жирная.
Но не скоро человек здесь заселится,
Пока звери лишь рыщут по лесу вольные,
Да меж трав снуют божьи ангелы.
II
Вторая будет о начале строительства в стиле силлабических виршей.
III
Третья будет о фундаменте в стиле классической оды.
IV
Четвертая будет о стенах в романтическом или реалистическом стиле.
V
Последняя будет о пепелище в символистском стиле.
Теодоро остался в недоумении от того, что три месяца разговоров об архитектуре христианских церквей увенчались только девятью строчками, но по крайней мере наконец понял, почему Пабло их вообще заводил. И вообще, как он связался с символистами, так и ударился в христианство, отсюда и все японские мотивы.
Теодоро вспомнил, как Пабло один раз принес ему журнал, где, как тому говорил Аваре, подтверждается христианская вера. Пабло нервничал, озирался по сторонам — тот журнал был запрещён и распространялся
Теодоро не нужно было убеждать в ложности сидианства, но, как он говорил Пабло, и прочая путаная аргументация не сделала его христианином.
Хотя после экспедиции он и стал относиться к ним теплее. Было в тех простых рабочих-техасцах, что-то живое, настоящее, воля будто, которой не хватало инкским шудрам. Он даже присоединялся к молитве, когда Джон вместе с другими рабочими просил у Бога, чтобы все они остались живы, чтобы все вернулись домой, чтобы припасов хватило на срок экспедиции. И Джон ведь правда считал за действия Бога, что все остались живы, вернулись домой, и им не пришлось голодать. Теодоро подкупала эта наивность, хотя сначала он посчитал её глупостью, но за несколько недель это стало таким своим.
Теодоро откинулся на подушку, подложил под голову руки. До встречи «Либерально-императорской партии» оставалось ещё целых шесть акули, на улицу совсем не хотелось. Он думал о том, как приятно жить: расслабленно лежать, жевать коку, читать стихи, вспоминать красивую барышню и размышлять, как обустроить империю.
Кипу пятое
Когда Теодоро шел на встречу, ему казалось, что мир вокруг изменился, едва заметно, едва уловимо. Ему казалось, что цвета стали ярче, насыщеннее, что люди вокруг, все, от гнавшегося за собакой парии до чинно идущего и беседующего с коллегой брахмана — все они были радостнее, энергичнее. Сначала Теодоро думал, что это от того, что он давно не был на центральной площади Атун-Куско
Даже, когда он уже встал в очередь у императорского театра, парочка барышень, стоявшая в очереди впереди Теодоро и говорившая о предстоящей встрече, не раздражала его.
— Сегодня в «Гражданине», — начала одна из барышень, и замолчала на секунду, сказав название престижного политического журнала, — я прочла, что на встрече будут Кристиан Капак и Хепри Фиванская. Похоже, что сегодня они, наконец, объявят о своей свадьбе.
— Да что вы!
Теодоро мечтал, что придя со встречи, они решат выучить испанский язык, прочтут «Мадридиаду» в оригинале, потом выучат португальский и японский языки, начнут читать научные книги и журналы, заботиться об образовании своих будущих сыновей, которые обязательно вырастут в замечательных инженеров, торговцев, ученых, художников…
А барышни все говорили о пустом. Сегодняшняя встреча «Либерально-императорской партии» проходила в императорском театре Куско, на основании чего парочка барышень решила, что эту встречу непременно посетит сам император, а в газетах об этом не писали, так это потому что он специально скрывает свой приезд, дабы произвести больший эффект.
На этот раз, когда Теодоро наконец прошёл в зал, его восхитило внутреннее убранство здания, на которое раньше он не обращал внимания. Театр назывался императорским не только потому, что принадлежал царской семье, но и потому что повторял устройство императорского дворца, чтобы напоминать собиравшейся здесь элите, в чьём владении она находится. Зал был украшен золотом, барельефами изображающими жизнь императоров прошлого. На входе в зал было 2000 мест, как для 2000 солдат императорской охраны, внизу были 100 мест для почетных гостей, как для 100 капитанов, затем оркестровая яма и, наконец, сцена, похожая на престол.
Теодоро занял место на заднем ряду. Иногда он вставал с кресла надеясь увидеть Санеру, искал глазами ее вышитую сакурами шаль. К Теодоро подсели другие гости. Сначала он не понял, что его смутило в них, но потом, когда свет в зале стал гаснуть, он заметил, что все они одеты в одинаковые чёрные пальто. Когда в зале стало совсем темно, гости разом скинули эти пальто.
И оказалось, что справа от Теодоро сидел старик, с длинной бородой, в кафтане, подпоясанной широким кушаком и в шароварах. Только обувь не подходила под одежду шудр: вместо обыкновенных сандалий, на старике были модные дорогие сапоги. Еще приглядевшись, Теодоро заметил, что это и вовсе не старик, а взрослый мужчина, загримированный под старика.
Слева от Теодоро сидел высокий молодой человек с густыми усами и ехидно приподнятыми уголками рта. Одет он был в красный парадный мундир кечуа, но
На плечо молодому человеку положила голову красивая девушка в зелёном длинном до пят платье незамужней девушки вайшьи, но её волосы были сплетены в косу, как у шудры, и голова была непокрыта, что разрешалось лишь женщинам-брахманам.
Теодоро вцепился кистями в подлокотники кресла, когда понял, что оказался в окружении футуристов. Нужно было пересесть, чтобы его вдруг не заметили рядом с ними. Что подумают о нём, что подумают об отце? Вдруг Теодоро решил остаться.
На сцену вышел амаута Кай Пача [1], председатель встречи. Он поприветствовал гостей, и занавес поднялся. Председатель объявил участников дискуссии. Теодоро вместе со всем залом аплодировал, восхищаясь количеством известных имён и блестящих умов.
— Кристиан Капак, герцог кечуа, меценат, пожертвовавший в фонд нашей партии 40 000 золотых мульо. Хепри Фиванская, герцогиня египетская, пожертвовавшая 65 000 золотых мульо. Пача Камак, профессор экономики Кусковского университета, Екеко, владелец постоялых дворов, меценат, пожертвовавший 15 000 золотых мульо, Шулька Вака профессор экономики Мадридского университета, заведующий кафедрой логистики и навигации…
Председатель предоставил слово Пача Камаку. Он предлагал решить проблему бедности шудр путем освоения территорий Севильи. Он долго, монотонным голосом, говорил об имеющейся у Инкской империи перспективной территорий Севильи, о перспективных показателях плодородности местных почв и культурах, что могут возделываться в этом перспективном районе.
Теодоро знал, что севильские земли не освоены по одной единственной причине: там ничего нет. Ни рек, ни руд, даже легендарные севильские леса были уничтожены ещё семь столетий назад для строительства пирамид в Куско. И даже эта вырубка лесов оказалось бесполезной: затянувшееся на несколько столетий строительство внезапно оборвалось, ни одной пирамиды не сохранилось. Летописи непонятным образом связывали это со строительством пирамид в Португалии. А потому и дальше Теодоро слышал одну только пустоту.
Следующим выступил Екеко. Он все говорил о будущем строительстве компанией «Екеко&Ко» дорог из Куско в Севилью, о строительстве «Екеко&Ко» домов для шудр и дал еще много обещаний от «Екеко&Ко».
Заявления Пача Камака и Екеко встретили возражения у Шулька Вака. Он подробно описал издержки строительства, издержки доставки ресурсов, издержки по переселению шудр, о повышении издержек на сельскохозяйственные товары внутри инкской империи. С ним стал спорить Пача Камак, говоря о сулящих громадные перспективы расчетах, владелец «Екеко&Ко» давал новые грандиозные обещания. Вака же всё продолжал говорить об издержках, и снова ему говорили о перспективах и обещаниях «Екеко&Ко». А тот все говорил об издержках, а те о перспективах и «Екеко&Ко»… Так летели с одной стороны сцены в другую слова об издержках, перспективах и «Екеко&Ко», пока всех не перебил Кристиан Капак. Он, раскрасневшийся, встал со стула и громко объявил:
— Этот вопрос не должен стоять в плоскости экономики и финансов. Самым главным является справедливость! Разве справедливо, что шудры голодают? Разве справедливо не получают должного образования? Разве справедливо не могут найти работу? Мы должны, во что бы то ни стало реализовать прожект, и передать Севильские земли шудрам, во имя справедливости.
Вновь посыпались слова о перспективах, о «Екеко&Ко», Капак напомнил о справедливости, его перебили словами об издержках, а того перебили перспективами, а его Капак… Вышло время отведенное на дискуссию и председатель Кай Пача объявил, что пора подвести итоги заседания.
— Итак, в ходе дискуссии мы нашли недостатки в наших расчетах. Нам придётся столкнуться с большими издержками, трудностями с переселением шудр. Поэтому мы не можем передать севильские земли шудрам. Однако мы видим продуктивное решение в…
Председатель подытожил, что интересы клуба в парламенте будет представлять Кристиан Капак, а также сказал, что у Кристиана есть объявление для гостей зала. Кристиан встал со своего места.
— Уже давно ходят слухи о моей готовящейся свадьбе, однако до сих пор не было названо имени моей невесты.
Теодоро вспомнил сплетни барышень о свадьбе Хепри и Кристиана. Капак улыбнулся Хепри и объявил:
— Я обвенчан с Анной Гонсалес.
Анна поднялась из зала на сцену, и взяла Кристиана за руку. Зрители встретили это овациями. Анна Гонсалес была дочерью либерально настроенного министра-испанца. Теперь к их свадьбе будет приковано всё внимание газет и избирателей, и Кристиан однозначно войдёт в парламент, ведь императору в последнее время так всласть поиграть в либерализм.
Теодоро решил уйти, и уже направился к выходу, как вдруг услышал громкое: «Пли!» Это кричал лжекечуа, рядом с которым сидел Теодоро.
На сцену полетели тухлые овощи. Вот помидор смачно растёкся по платью Анны. Часть снарядов не долетала до сцены и падала на зрителей, Теодоро заметил, как один плешивый старичок стряхивал с головы парик из листа капусты.
Футуристы бросились бежать, на ходу надевая чёрные пальто. Увлечённый толпой футуристов Теодоро побежал вместе с ними.
Вскоре вся толпа оказалась на улице и рассеялась в разные стороны. Теодоро продолжал бежать вместе с несколькими из них. Он чувствовал себя живым, как в экспедиции, когда вместе с американцами, весь трясясь от страха наблюдал двое из них играли в инкскую рулетку (ему только утром сказали, что револьвер не был заряжен).
В очередной раз завернув за угол, он остановился вместе с футуристами.
— Оторвались, — сказал один из них, Теодоро узнал лжекечуа, который сидел рядом с ним в театре.
— Я понял, — тяжело дыша, проговорил Теодоро, — всё это было лишь плохим спектаклем.
Лжекечуа рассмеялся.
— Петро Кахуа, — футурист протянул Теодоро руку. — Чувствую, что ты наш по духу. Мы собираемся в салоне «Брод». Найдёшь нас, как созреешь, — и футуристы растворились в толпе, выйдя со двора на проспект.
Теодоро ещё постоял какое-то время, и, вновь рассмеявшись, направился домой.
Кипу шестое
— Мне кажется, что Япония до сих пор не вступила в войну, потому что готовит очень крупный удар, — продолжал Пабло. — Возможно, они планируют ударить не только по Португалии, но и по Инкской империи. Это было бы логично. Помочь Америке освободить города, захваченные Португалией, и освободить Калифорнию. Там же ведь почти нет сухопутных войск.
Пабло гостил у Теодоро в его квартире, они пили принесённое Пабло вино. Пабло звал друга прогуляться, но тот упорно отказывался. Тогда Пабло неожиданно заговорил о
— Раньше все думали, что поможет Египет, но теперь, когда они вступили в войну с Грецией, они вряд ли начнут войну на два фронта. И вообще — все в империи так спокойны. Не понимаю, почему они до сих пор не говорят об этом, не хотят слушать, почему все так уверены в своей безопасности? Флот? Флот разобьют пароходы. Ты слышал, что японцы теперь будут использовать только пароходы во флоте?
Теодоро вспомнил, что завтра договорился навестить Санеру. Прошёл месяц с их знакомства, и весь месяц он искал повода встретиться с ней, даже купил новый модный сюртук за 1000 медных мульо, чтобы не было стыдно ходить в оперу и салоны, где надеялся увидеть её. Завтра он должен был приехать в её родовое имение, она пригласила его на вечер, где собирались играть в фанты. Теодоро думал, что отправить ей в записке, чтобы вежливо отказать. Теперь он боялся её видеть. «Она не поймёт, не примет», — думал Теодоро. Он хотел поделиться с ней тем, что тревожило его, или хотя бы с Пабло, но не решался.
— Да, наши войска более умелы, сильны воинские традиции, большой опыт у офицеров… Но в бою традиции и технологий я ставлю на технологии. А может… что если… что… — по лицу Пабло было видно, какая напряжённая работа ведётся в его мозге, будто он думает одновременно над сотней идей, будто одновременно придавлен на дно ужасом и счастлив до края. — Может, японцы не остановятся в Калифорнии? Может, они двинутся дальше, чтобы усилить христианскую церковь в империи? Они освободят нас! Христианство станет государственной религией! Это будет так же, как когда португальцы и египтяне приняли у японцев календарь для облегчения торговли.
— Ты действительно думаешь, что война, смена религии — это то же самое, что и смена календаря?
— Но ведь египтяне и португальцы изменили само время? Представь, что настанет 1812 год от Рождества Христова, а не 5853 как сейчас. Представь, что тогда будет… Хотя, может быть, это и не нужно. Ведь приняли же в сидианстве, что Христос — одно из воплощений Виракочи, ведь слово божие — оно всем дано. Я теперь часто хожу в мандир, ставлю свечки за исцеление спины, стала часто болеть спина. Скоро неважно будет, сидианин ты или христианин, главное Христу или Виракоче-Христу поклоняйся. А знаешь, что любой поэт близок к богу? — внезапно спросил Пабло. — Поэты называют вещи, как Адам, по божьему благословению. Поэтому я перманентно врезываюсь в ад, чтобы отбросило назад. Понимаешь, мы люди духа, а не души или плоти…
— Слушай, я тебя сейчас совсем не понимаю. Может лучше продолжишь о войне?
— Что? — не понял Пабло.
Теодоро махнул рукой, а Пабло всё говорил что-то гностическое.
— Знаешь, я хотел тебе сказать… — перебил Теодоро Пабло. — Хотя, давай потом… Продолжай.
— Да уж расскажи, чего ждать-то?
— Нет, не к месту.
— Господин Уму-Туллу говорил, у тебя что-то случилось.
Теодоро помрачнел и пересказал Пабло события вчерашней ночи.
Теодоро работал по ночам, запираясь в кабинете изнутри. Описывая находки он заполнил уже несколько журналов. Спал он, сидя прямо за столом.
И вот, пока Теодоро спал, он вдруг услышал, что кто-то пытается вскрыть дверь. Теодоро достал из ящика стола револьвер и навел его на дверь. Когда взломщики открыли её, то первым, что они увидели, были полутёмная фигура и сверкающее дуло. Воры сбежали, Теодоро не увидел их лиц.
Не зная что делать, Теодоро побежал к вахтеру и рассказал о взломе. Тот осмотрел дверь и у порога нашел сломанную отмычку.
— Почему ты
Теодоро молчал. Его гипотеза не подтверждалась, но он собрал потрясающий материал — останки целого отряда воинов-кечуа из похода инкского императора Синчи Рока на Египет. Этот поход был известен тем, что не состоялся, поскольку, направив армии к границе египетских земель, император Синчи Рока на середине пути передумал и повернул их в сторону Мадрида. Найденные Теодоро воины погибли в песчаной буре, вероятно, по-прежнему вдохновлённые речами императора на войну с египтянами, о харизме которого сообщали легенды. Находка была ценной сама по себе, ведь редко удается найти столь хорошо сохранившиеся скелеты, одежду и снаряжение древних людей, а потому это был ценный антропологический и археологический материал.
Однако эти потерянные в пространстве и времени люди, оказавшиеся вовсе не там, где должны были находиться, волновали Теодоро и вопросом, на который он не находил ответа: почему не случилось инкско-египетской войны? Почему император Синчи Рока повернул свои армии? Почему события сложились так, а не иначе? Категорическая случайность действий Синчи Рока не объяснявшаяся ни чем, ни археологически, ни из легенд и хроник, ставила вопрос — а что было бы, если он принял другое решение? Если бы все оказалось по-другому, в каком мире мы жили бы тогда? Инкская армия была бы уничтожена и ослабленная империя была бы разрушена ордами варваров? Египет был бы захвачен, Инкская империя воцарилась бы на море, а Испанская империя стала бы ее вечным союзником? Что если бы все сложилось по-другому? Почему все не сложилось по-другому?
Эти вопросы были бы совсем не плодотворны, если бы не приводили к другому важному для Теодоро вопросу — что было бы, если бы он не выстрелил в напавшего на них в экспедиции змеелюда? Почему он выстрелил?
В экспедиции, команду Теодоро окружило племя змеелюдей. Теодоро был в часовых вместе с Джоном, они подняли крик. Теодоро был в ужасе, когда поднимал револьвер, стрелял. Раз, два, три… Змеелюди рассеялись. Он тогда почувствовал ужас змеелюдей, когда они разбежались в стороны. Он был для них богом из легенд, мечущим огонь, злым, гневным божеством, хотя сначала был лишь добычей. Для него они были звери, варвары. Они отступили сразу, как только Теодоро начал стрелять, только одного американца успели ранить в бедро копьём. Теодоро помнил, как Роберт хотел над ним подшутить, что Теодоро дескать настоящий ковбой, но смолк под взглядом Джона. А Теодоро продолжал думать, сколько же человек он на самом деле убил? Тот змеелюд был охотник, скольких он не смог накормить? Теодоро после полдня разговаривали с Джоном, но тот не утешил его.
А потому вопрос о находке вызывал в Теодоро целый веер сложных чувств, которыми Теодоро не мог поделиться с другом.
— Почему ты не хочешь ничего мне рассказать?
— На то, есть свои причины, — сухо ответил Теодоро. — Мне кажется, что отец причастен к этому.
— Почему ты так решил?
— Я спросил у вахтера, не интересовался ли кто-нибудь, когда я обычно ухожу из университета. Вахтер ответил, что днём об этом спрашивал мой отец.
— Ты думаешь, он пытался тебя обокрасть?
— Нет, но он мог подсказать это ворам или же кому-нибудь из амаута.
— А если он хотел тебя проведать?
— Да, сам он пришёл бы для вида меня проведать, но подговорил кого-нибудь украсть находки.
Пабло взял Теодоро за плечо:
— Ты понимаешь, что говоришь?
Он хотел потрогать лоб Теодоро, но тот вырвался и оттолкнул Пабло.
— Ты сходишь с ума. Когда ты в последний раз выходил на улицу и разговаривал с людьми?
— Ты не понимаешь, повсюду хотят обмануть, использовать… Разве ты не понимаешь этого?
— И я хочу обмануть тебя и использовать?
— Нет, ты нет… — Теодоро взялся за лоб.
— И господин Уму-Туллу тоже не хочет навредить тебе.
— Разве ты не понимаешь, что он ненавидит меня?
Оба замолчали. Теодоро вдруг раскатисто рассмеялся.
— Пабло, прости меня. Смотри, вино закончилось. Ещё вина, пойдём выпьем ещё вина и всё забудем! Я заплачу!
Пабло отказывался, но спустя пару минут оба уже стояли у дверей ближайшего кабака.
Вот они уже держали в руках стаканы с дешёвым красным вином. Стакан, Пабло всё говорил то о символизме, другой стакан, то о предстоящей войне, ещё стакан, Теодоро взвешивал, стоит ли рассказать другу о находках, стакан, стакан, стакан…
Теодоро и Пабло, как и другие посетители кабака, развернулись, вдруг услышав, как
нож живот
заката рокот пенит нёбо
кровь просып из рта
кровопад
паденье
земля
растворенье
ты был и будешь лишь
растенье
вступай в пыльцы переплетенье
ходячий трупов блуда плод
неважно
тебя пожнёт
я
нож живот[2]
Пьяный чтец, одетый в брахманский сюртук, но
— Хах, вот белиберда, — рассмеялся Теодоро.
— Это Хосе Пюка. Он хороший автор, хотя мне больше нравятся другие футуристы. Понравилась, к примеру, недавняя поэма «Мильтиад». Мне кажется, что Мильтиад очень христианский персонаж. То есть… как когда Бог благословил Иакова. Он же боролся с Богом, а затем потребовал благословения. А Мильтиад не слышал благовестия, не знал о Боге, поэтому требовал проклятия от людей. Всё перевёрнуто.
— Если всё перевёрнуто, то почему персонаж христианский?
Увидев, что Пабло обиделся, Теодоро рассмеялся и похлопал его по плечу:
— Извини, Гарсиас, просто, как только ты связался с символистами, так теперь всё понимаешь через христианство. А стихи у этого Хосе — полная белиберда.
— Это было не его стихотворение, а Петро Кахуа.
Услышав знакомое имя, Теодоро изменился в лице:
— Говоришь, я не выхожу на улицу, и ни с кем разговариваю? Так давай позовем к себе этого футуриста. Тем более говоришь, что знаешь его.
И Теодоро, не обращая внимания на возражения Пабло, отправился к столу футуриста, прихватив с собой стакан. Подходя, он услышал обрывок разговора:
— То есть вам правда кажется логичным, что наш мир, раз за разом случайно создается заново Сидом, а управляет миром Виракоча и
Теодоро остановился, с улыбкой ожидая ответа. Он отметил элегантность костюма футуриста, ненавязчивость его переодевания в сравнении с остальными. Футурист продолжал:
— Это же только оправдания кастового общества. Разве эта парадигма не наносит людям вред, разве она не ущемляет их в правах?
— Кастам уже более 1000 лет, а мы должны сохранять и чтить наши обычаи.
— Это ошибочное суждение, humu saqina, апелляция к традиции. Любая традиция когда-то была новацией. Ну, вот давайте по-другому рассудим…
Но оппонент футуриста категорично отрезал:
— Все ваши слова кощунственны, вы — преступники! Вам место в тюрьме! — и вышел
Футурист только рассмеялся. Теодоро посмеялся вместе с ними, присел на пустое место, а потом предложил ему вина и указал на стойку, где сидел Пабло.
— Простите, откажусь, к сожалению, я уже собирался уходить, сегодня вечером состоятся чтения в «Броде». Но если хотите, то можете пойти со мной.
— Конечно, с большим удовольствием.
Теодоро вернулся за нахмурившимся Пабло.
— Ну что, Пабло, пройдемся вместе с твоими знакомыми на их чтения, ты же у нас любитель поэзии!
— Пойдём, — буркнул сердитый Пабло.
Трое пьяных отправились на литературные чтения футуристов.
— Вы приводили прекрасные аргументы против своего оппонента, — похвалил футуриста Теодоро.
— Спасибо. Считаю, что всегда нужно искать возможности наставить человека на путь истинный, — Хосе ухмылялся глядя на Пабло. Тот молча принял укол. Тогда Хосе продолжил. — Вот вы, Пабло, как считаете, религия тормозит развитие общества оковами традиции?
Пабло не стал увиливать. Немного подумав, он ответил:
— Христианство — нет. Христиане свободны от закона, а значит и от традиции.
— Но разве в христианстве нет традиций?
— Это от нашей немощи. Слабые отцы не находят другого способа учить сынов кроме как с помощью традиции. Сыны ненавидят её, рушат, но создают новую, бесконечно ошибаясь.
— То есть вы отрицаете христианскую традицию? Как же вы тогда можете быть христианином? Как же вы тогда можете определить, где границы? Где писатели прошлого ошибались, а где говорили божье слово?
— Лишь говорю, что отцы могли ошибаться по немощи. Мы все творим зло случайно, по немощи. Но благодаря христианам земной ад будет ликвидирован. И вообще, одна из главных заповедей — любовь к ближнему. А больше ничего и не нужно. Эту заповедь может соблюдать каждый, даже не христианин, вот христиане и спасут всех, проповедуя её.
— Получается, христианство вовсе даже и необязательно? Зачем бог, который необязателен, если можно просто любить ближнего?
Пабло растерялся и расстроился. Хосе злорадно качал головой, чувствуя приближающуюся победу в споре, но Теодоро, желая помочь другу, перебил его и попросил рассказать о программе предстоящего вечера, и Хосе отказал ему, потому что они узнали бы всё на месте, и они стали спорить о другом. Пабло так и шёл всю дорогу до «Брода» молча.
Кипу седьмое
Теодоро, Пабло и Хосе спустились в подвал дома на центральной площади Атун-Куско. Люди были повсюду, в сюртуках, в кафтанах, с серьгами, с разукрашенными лицами. Теодоро не знал здесь никого.
Хосе заговорил с одним поэтом, другим и быстро скрылся из виду. Тогда высокий Теодоро дёрнул Пабло за рукав, чтобы они подошли ближе к центру зала, где сводчатый потолок поднимался вверх, и он мог бы стоять, не сгибая головы, но того уже уводил в сторону еще один поэт.
Повсюду говорили, пили, смеялись. Теодоро встал в стороне от всех, разглядывал людей вокруг.
Рядом с Теодоро стоял бритый, косоглазый, низкорослый молодой человек, выглядевший бы нелепо, если бы не военная выправка. Он оживлённо говорил с женщиной, выглядевшей бы некрасивой, особенно
— …отмена свадьбы — это признак скорой войны.
Теодоро вспомнил, статью из утренней газеты об отмене свадьбы герцога Ямамото и герцогини Пуруна. Семья Ямамото, древний египетский боярский род, происходивший из Японии, теперь после поправки о свободе слова стал открыто исповедовать христианство, и глава семьи настоял, чтобы свадьба прошла по японскому обряду, но инкская сторона настаивала на проведение церемонии по сидианскому образцу. Спор продолжался около недели, пока не стало известно, что даже египетский император решил поддержать Ямамото. Семьи, так и не найдя общего языка, отменили свадьбу. Теодоро увидел в этой новости торжество свободы совести, но эта обрывочная фраза, позволила ему понять — Пабло был прав, на Инкскую империю надвигался ужас.
Пока Теодоро думал об этом, его внимание привлек, грустный молодой человек, сидевший за столом и глядевший на стакан водки, в глазах которого Теодоро вычитал расслабленные мысли о смерти. Казалось, что этот человек только и может, что думать о смерти, разложении, распаде всего, всегда напряженно, импульсивно, нервно, с ужасом, но сейчас он дал себе минуту расслабиться и о смерти думал лишь с легкой ноткой грусти. Рядом с ним также молча сидел курчавый, но с проплешинами человек с глазами полными такого ужаса, который вытаскивал из глубин души самые потаённые кошмары, и они казались реальнее жизни. Теодоро почувствовал, что этот человек исследовал самые глубины ужаса, и поделился этим ощущением с сидящим рядом грустным приятелем. Теодоро подумал, что они, наверное, знаменитые злоязыкие поэты, но Теодоро не знал, что они были пока неизвестны и их ощущение ужаса, было тогда ещё лишь предчувствием того абсурдного кошмара, что предстояло испытать инкскому народу после войны. От них так веяло чувством катастрофы, что Теодоро хотел подойти к ним и познакомиться, но его взял за плечо Пабло.
— Сейчас начнётся, — сказал он.
Теодоро повернулся, чтобы вновь взглянуть на тех двух поэтов, но они исчезли. «Как сферы», — пронеслось в голове у Теодоро. Он нервно встряхнул головой, чтобы избавиться от этих мистических мыслей.
Из зала на сцену вышел Хосе Пюка. Поприветствовав зрителей, Пюка объявил:
— Сегодня мы представляем вам манифест футуристического театра.
Хосе зачитал с листа: «Театр больше не должен быть фикцией, но стать действием, приближающим будущее… Театр должен стать игрой вовлекающей зрителя, а иногда и объект пародии, сатиры… Более нет деления на зрителя и актера, а есть лишь участники действия… Более нет деления на спектакль и действительность, игра и спектакль становятся нашей жизнью, костюм — повседневным платьем…»
Закончив читать, Хосе предложил обсудить своё, как он говорил, «первое выступление в жанре акции».
— Итак, сегодня завершается моя акция «Пятно». Месяц назад я, красной вязкой гуашью, сделал надпись на стене университета «Лучше тьма, чем такой свет». Её видели сотни студентов, утром шедших в классы, и до вечера её стирали шудры.
Теодоро вспомнил, что по приезде видел шудр, стирающих что-то красное со стен университета, оказалось, это было художество.
— Думаю, вы прекрасно понимаете ее смысл. Важны мои действия сами по себе, образ, который создается перед взглядом зрителей.
Теодоро вспомнил, каким ярким тогда было солнце. Блеск золота университета должен был слепить. Но то пятно не могло отражать свет, издали оно казалось тем самым «пятном», тьмой. Теодоро это неожиданно понравилось.
— Все равно, чем это отличается от надписи на заборе, если ты нахулиганил и теперь скрываешься?
Пюка с улыбкой ответил:
— Напротив, я совсем не скрываюсь. Когда оказалось, что меня не смогли поймать, я пришёл и рассказал о своём поступке ректору. Пришлось даже отвести его в свой кабинет и показать краски и кисть, которыми я делал надпись, ректор не хотел мне верить. Я оплатил штраф за вандализм, — Пюка достал из кармана расписку. — Сегодня же я пришёл с закрытого дисциплинарного заседания. Кафедра решила, что подобное провокационное поведение недопустимо для ячапа. Итак, я уволен со службы в университете. После вашего замечания и моего ответа акция закончена, я свободен, — Пюка поклонился до земли, и ушёл со сцены.
В зале рассмеялись, а потом зааплодировали, Теодоро, как и Пабло, подхватил вместе со всеми. Теперь было понятно, почему Пюка был без серег — их сняли при увольнении, и теперь он не имел права их носить, ещё хорошо, что не вырвали, это было бы ещё большим позором.
Пюка вернулся, поклонился ещё раз.
— На сегодня моя миссия еще не окончена. Хочу пригласить на эту сцену зрителей из зала для исполнения первого футуристического спектакля! Поэма «Мильтиад»! Партии Мильтиада исполняет автор!
Зрители стали выходить на сцену. Теодоро замешкался, не зная, что делать, подумав, что пригласили всех зрителей, однако никто рядом с ним не двигался. Среди вышедших Теодоро заметил Петро Кахуа. Большим удивлением для Теодоро было, что Петро речитативно стал исполнять партии Мильтиада.
Мильти`ад
I. Дни
Хор эфесцев (выходя на сцену)
Сияет златом вечный,
Богатый и беспечный
Эф`ес, наш славный град.
Хор останавливается, Мильтиад выходит из хора.
Где ты, любимый, был?
Так отчего уныл?
Мильтиад
Я домой возвращался с агоры.
Пляс Пана безумного своры
Увидав, я бежал до порога –
Раскололся непроданный килик.
Заприметил я в кронах сначала,
Как кимбалы дриад застучали.
В небеса вдруг птицы взметнулись:
Их сатиров копыта вспугнули.
Рассказали мне травы, как ножки
Убегающих нимф приласкали.
И возник Пан с пастью, как ножны:
Три ряда клыков он оскалил.
Он дыханье моё украдёт,
Если вдруг к нему прикоснётся.
Я сбежал, но за мной он вернётся.
Я сбежал, но меня он найдёт…
Хор эфесцев
Где ты, любимый, был?
Отчего так уныл?
Мильтиад
Повстречал я вновь Панову свору.
Увидав их очей злой блеск:
Я свернул и сбежал от них в лес.
Я бежал, и бежал, и бежал!
Мне мерещился всюду лай
Слуг бога коварного Пана.
И остановился измотан
Посреди вековых я дерев.
Притворялись покойными древа,
Пруд тайный скрывая листвой:
Артемида купалась в тени.
Угадав, я зажмурил глаза.
И поднялся тут ветер: то хохот
Артемиды, деревьев и Пана.
Он пустил свиту свою
Поразвлечься, пригнала она в лес
На потеху богини меня.
Божеству человека что жизнь?
Потешаться над смертным им любо.
Стих ветер, открыл я глаза.
Не узрел ни богини, ни свиты.
От пруда прочь пошёл, заблудился,
И вот я домой возвратился.
Уничтоженным быть божествами
Мой рок? Вновь погонят меня,
Бестелесные. Как, скажи,
Победить бестелесное смертным?
Хор эфесцев
Где ты, любимый, был?
Отчего так уныл?
Мильтиад
Я гулял, как привык уж теперь.
Исходил все тропинки лесные.
Дом только, да лес. Я нигде
Не бываю уж больше давно.
Да, сегодня надолго ушёл.
Я читал книгу. Философ
Доказать, что не Гелиос в небе,
А светящийся шар вдалеке,
Попытался. Ни нимф, ни дриад
Ни сатиров, ни богиню, ни бога,
Не видал я тогда: мне легенды,
Отравляли воображенье.
Но легенды живее людей.
Легендарное только и есть.
Я всё думал. Охоту не бросят
Божества. И спросил я себя:
Неужели от жизни моей
Лишь горшки останутся только?
Неужель я есть, лишь родной Эфес покуда
Нуждается в посуде?
Тогда и нет меня,
А только есть Эфес!
И избрал я себе сам рок.
Нет царя и нет бога, владеть
Что способен судьбою моей.
Зверь, будто попавший в капкан,
Отгрызает который лапу,
Отгрызу я свое тело.
Поравняюсь с богами тогда,
Бестелесное тем я сражу.
Я решился. Пора уходить.
Сыновья заберут мой труд,
Ты хозяйкою станешь над ними.
Я от уз кровных отрекся:
Не хочу разделить с вами долю.
Знай, любимая: имя мое
Рассечет небеса над Эфесом!
II. Ночь
Закат над Эфесом.
Хор эфесцев
Сияет златом вечный,
Богатый и беспечный
Эфес, наш славный град.
Хор уходит со сцены. Наступает ночь. С холма бежит медведица. Храм Артемиды загорается. Возле него — Мильтиад. Хор возвращается.
Напасть на бога своего!
Преступника того!
Нам дайте разорвать!
Его четвертовать!
Мильтиад
Царь новый явился, склонитесь пред ним!
Мильтиад — безраздельный владыка Эфеса!
Имена растворятся в истории ваши,
Но на все времена над Эфесом Мильтиад
Воссияет!
Нарекая «Мудрец» иль «Безумец» вы ошибётесь!
«Богоборцем» меня называйте теперь,
Героической битвы свидетели!
Хор эфесцев
Напасть на бога своего!
Преступника того!
Нам дайте разорвать!
Его четвертовать!
Мильтиад
Мысль — страстью затлела, поступком она
Разгорелась. Поступку легендой судьба
Уготовила стыть. То моя воля, она лишь будет жива.
Быть проклятым вами –
Вот чего я желаю.
Вы меня заключите в оковы позора.
«Навсегда», вы глупо считаете.
В пыль тело моё сгинет
В пыль сгинет Эфес,
Но найдется Геракл, что освободит мой дух!
Уж хотите меня короновать?
Так пора! Коронуйте!
Хор эфесцев
Напасть на бога своего!
Преступника того!
Нам дайте разорвать!
Его четвертовать!
Казнь. Хор четвертует Мильтиада.
Мильтиад
Мильтиад — безраздельный владыка Эфес!
Царь нов явилс, склон пред ним!
Имен раствор в истор вы,
Но на все времен воссия
Мильтиад!
Хор эфесцев (уходя со сцены)
Сияет златом вечный,
Богатый и беспечный
Эфес, наш славный град.
Забудьте Мильтиада!
Хор закончил петь, зал зааплодировал, и Теодоро вместе со всеми. В его душе зародилось новое, ещё не до конца оформленное чувство. Если бы судьба целого мира зависела от вашего решения? Если бы одним своим желанием вы могли бы уничтожить целый мир, вы бы уничтожили его или нет? И почему? Теодоро понял, что, как и Мильтиад, хочет уничтожить мир, в котором живёт, потому что после того как он стал убийцей, он уже не мог больше находиться в нём. Теодоро с ужасом понимал, что он так же как и Мильтиад хочет сжечь храм, храм истории Инкской Империи.
Программа вечера закончилась. Сцена была объявлена свободной, каждый мог выйти и прочитать своё стихотворение. Пабло предложил Теодоро уйти, но он хотел остаться, надеясь поговорить с Петро о поэме. Пабло всё же ушёл, а Теодоро остался на вечере. Он подошёл к Петро и рассказал, что он почувствовал, не объяснив только причину своих чувств. Петро ответил одной фразой «Я сразу увидел, что ты — наш» и заказал ему вина. Весь оставшийся вечер Теодоро слушал стихи, пил дешёвое вино с футуристами.
Он вернулся домой лишь под утро, совсем разбитый. Не раздеваясь, он лёг в постель и заснул.
Разбудил его стук в дверь. Теодоро поднялся с раскалывающейся головой, зажевал остатки листьев коки, надеясь хоть немного привести себя в порядок, и открыл дверь. Нежданным гостем оказался его отец.
— Здравствуй, сын. Разреши мне зайти.
Теодоро впустил отца и лег на кровать. Господин Уму-Туллу встал напротив.
— Ты опять напивался этой ночью? Представь, что о тебе думают люди. После твоей выходки на вечере, когда ты заявился пьяный, в пончо… Ректор отказал мне в должности декана. Знаешь, как долго я готовился?
— Отец, зачем ты пришёл? — спросил Теодоро.
— Я узнал, что тебя пытались ограбить. Я заходил к тебе вечером, но не застал дома. Мне кажется, я знаю, кто мог послать взломщика.
— Это амаута Авака.
Господин Уму-Туллу был поражён.
— Я тоже подозреваю его. Почему ты так решил?
— Он положил глаз на ящики ещё с моего приезда.
Отец Теодоро закивал:
— Да, он уже третий раз за месяц подходил ко мне и мимоходом пытался выяснить, что в ящиках. Теодоро, — отец сделал долгую паузу, — я хочу помочь тебе. Но сначала, прошу тебя, скажи, что ты нашёл в Западной пустыне?
Теодоро приподнялся на кровати, внимательно посмотрел отцу в глаза и отцедил:
— Прости, отец, но это долгий разговор, а мне сегодня ещё надо будет работать. Пожалуйста, оставь меня одного.
Теодоро знал, что господин Уму-Туллу поймёт, что он его прогоняет, и ожидал, что тот вспылит, накричит на него, но отец только печально смотрел на него в ответ.
— Так вот, что ты чувствовал, когда я прогнал тебя. Пожалуйста, прости меня.
Господин Уму-Туллу поднялся и хотел подойти к кровати Теодоро, подняв руки, будто хотел обнять его. Теодоро ответил лишь:
— Уходи.
Господин Уму-Туллу так и застыл на месте с нелепо поднятыми руками. Опустив их, он развернулся и молча вышел за дверь.
Теодоро же выплюнул коку в горшок, и лёг спать.
Кипу восьмое
Теодоро и Пабло ждали начала забега уараку недалеко от холма Уанакаури. Оба были одеты в лучшие наряды, на Теодоро был тот новый сюртук и накинутое на плечо пончо, а Пабло был в старом пиджаке отца, который надевал на вечера.
Друзья стояли в толпе в окружении самого разномастного народа, здесь были и шудры, и брахманы, и кечуа, и вайшьи, ведь это был общий праздник. Каждый надеялся увидеть как его сын, брат или, как то было в случае Теодоро, студент, в числе первых взбегает вверх по холму и забирает сделанную из соли фигурку колибри или дикой утки. А может даже и сокола! И не дай Сид оказаться среди змей или лягушек!
Теодоро вспоминал свой забег уараку. Подумать только, это было целых пять лет назад! Тогда ещё бегали целый акули, а не половину, как сейчас: теперь до холма Уанакаури должны были бежать от
Народ загудел, и Теодоро увидел на горизонте ряд бело-красных пятен:
— Вижу! Бегут! — успел крикнуть Теодоро для Пабло, пока его не заглушили крики толпы. Пабло пытался подпрыгнуть, что-то сказал Теодоро, но тот не расслышал.
Теодоро смотрел на бегунов и с гордостью узнавал знакомые лица. Вон Алехандро, Рока… а вон бежит Адриан, будет среди соколов.
Народ гудел, поздравлял, встречал с овациями соколов, однако каждую следующую волну бегунов в
— Ползи быстрее бесхвостый!
Когда на холм взбежали последние двое лягушек, от толпы стала отделяться часть. Теодоро кивнул Пабло, что значило: «Пора!» Они пошли вместе с отделяющимися. Теодоро заметил, что почти все, кто уходил — шудры.
После забега, уараку должны были сойтись в потешной битве. Теодоро рассказал Пабло, как сам будучи уараку сумел отобрать одно из игрушечных знамен. Он тогда был в команде осаждающих, шёл вслед за кечуа, возглавлявшим отряд на левом фланге. Отряд быстро перемахнул стены деревянной крепости, и с общим криком «Ура!» пошел на защищающихся, которых отвлекли атакой ворот. Кечуа возглавлявший отряд первым бросился в сторону знаменосца, остальные за ним и вскоре все смешались в кучу малу. Теодоро, которого толкали со всех сторон, вдруг заметил выпавший из рук знаменосца и лежащий на земле штандарт. Он хотел завладеть штандартом сам и бросился к нему, сбив с ног пытавшегося поднять штандарт лягушку. Он взял в руки знамя и взмахнул им над собой. Но лежащий на земле лягушка не считал себя побеждённым, попытался выхватить знамя, но Теодоро отбил его руки коленом. Он побежал в сторону деревянной башни, чтобы водрузить его наверху для победы, но его повалил на землю сокол.
Пабло заметил в толпе Петро и Хосе и повёл к ним друга. Петро был одет в красный мундир кечуа, а Хосе в
— Её отец уже давно нашел письма, принес их ей связанные снурком… — говорил Петро о письмах Нивес.
— Ты должен помочь ей…
— Поздно, он срезал ей волосы и изгнал из семьи, она теперь пария.
Петро заметил Пабло и Теодоро, и выражение его сменилось на радостное:
— Чего ещё не снял сюртук? — вместо приветствия спросил Петро.
Теодоро надел поверх сюртука пончо, которое нес с собой.
На праздники, а также на балы футуристы приходили переодетыми. У каждого была особая манера. Хосе обычно надевал простой костюм брахмана, но вместо обращения на вы к господину или госпоже или на ты к слуге или служанке всех называл придуманным им словом «викка», а когда его спрашивали, что оно значит, отвечал: «Викка — это те, кто раньше были брызами». И у Петро были свои реплики, одетый в красный мундир он ко всем обращался на ты: «мой, моя», один раз он даже подрался с обиженным вайшья.
Петро убеждал Теодоро подобрать себе наряд. Теодоро долго колебался, костюм какой касты носить, пока не сказал: «А я вообще не хотел бы быть инкой, если бы мог», — и стал носить пончо по-американски.
— Другое дело, — Петро снова похлопал Теодоро по плечу. — О чем говорили?
— Я рассказывал Пабло о своем экзамене уараку.
— О, я свой помню хорошо, — покачал головой Петро. — Помню потешную битву.
— Сегодня битва может стать настоящей, — печально отметил Пабло.
— Зачем императору отказывать нам? — спросил Пюка.
— Пабло прав, — закивал Петро. — Вы твёрдо запомнили? Алли машет золотым платком — торжествуем. Красным — восстаём.
— Без сомнений, император согласится, — сказал Теодоро, однако всё-таки повторил про себя: «Золотой платок — торжествуем. Красный — восстаём».
— Послушай, Пабло, а что ты здесь делаешь, разве не вся власть от Бога? — спросил его Петро.
Пабло не успел раскрыть рот, как вмешался Хосе:
— Это искажённое представление, будто христиане всегда только покорны властям. Разве ты не помнишь о гонениях или как ветхозаветные пророки или Иисус обличали власть? Когда нужно было отстаивать веру, они решительно не повиновались властям. Если подумать, они всегда были с крутым нравом. Не думал, что когда-нибудь соглашусь с ними в
Восстание шудр оказалось внезапным для всех. Тут и там по всему Куско были стачки, забастовки, и ни начальство заводов, ни власть не соглашались с их требованиями. Тогда Алли пришла мысль пойти и составить петицию лично для императора.
Теодоро слышал о харизме Алли, как он, произнеся лишь одно слово, мог вести за собой тысячные толпы, какой у него был магнетический взгляд, который переворачивал всю твою душу. У Теодоро разгоралась кровь, и он думал, что если лишь рассказы об Алли так действовали на него, то что же будет, когда он увидит его и тот заговорит.
Они вышли к центральной площади Атун-Куско. Люди были повсюду. У Теодоро тряслись руки от волнения, ему казалось, что они не слушались, и он не способен сжать пальцы в кулак.
Вскоре пришел Алли, и все встретили его радостными криками. Он был неожиданно спокоен, и казался похожим на медитирующего Кришну. Он благословил толпу и направил её вперед.
И люд пошел. Теодоро думал, какой же человек этот Алли. Он в толпе не мог собрать пальцы в кулак, а тот собирал в целое тысячи на восстание.
Шудры появились в результате восстания. Давно существовал народ янакуна, произошедший от испанцев, они подняли восстание в провинции Севилья, и их смели императорские войска. Те несколько десятков тысяч, что остались в живых расселили по всей империи, и они быстро смешались с местным населением, с крестьянами и слугами, а потом, когда император Синчи Рока II объявил себя верховным брахманом, учредил Сенод и касты, то все потомки восставших были объявлены шудрами, созданными из грязи
Теперь восстание должно было освободить шудр. Вёл их брахман, рядом с ними были и брахманы, и кечуа. В петиции ещё не было требования об отмене каст, но общее школьное образование, доступное всем кастам университетское образование, 10-тичасовой рабочий день и многое, многое другое приблизили бы общество к решению этой проблемы.
Над толпой, казалось, шло гигантское живое облако: Алли решил, что шествие рабочих к дворцу императора должно иметь вид богослужения, поэтому народу раздали благовония. Возможно, дым от благовоний, скрывавший обзор, стал одной из причин,
Когда Пюка услышал крики и сказал о них остальным, то Теодоро предположил:
— Может, кто-то упал и его задавали.
Опровергло его слова ржанье лошадей.
— Откуда здесь лошади? — спросил Пабло.
— Подошла кавалерия, — догадался Петро.
— Кавалерия? — переспросил Пабло.
— Да, — кивнул Петро. — На левом фланге.
Крики и ржанье действительно приближались с левой стороны. Народ переглядывался, но шёл.
— Нас перережут, — прошептал Пабло.
— Мы выстоим! — решительно сказал Петро.
— Что говорит Алли? — крикнули в толпе.
Народ перешёптывался, передавая, что говорил Алли.
— Алли говорит идти вперед, — дошло сообщение до Теодоро и других.
— Безумие, — сказал Пабло. — Нас же всех зарубят!
Петро зарядил ему подзатыльник:
— Угомонись! Они не атакуют. Поднимется паника, народ друг друга перетопчет похлеще кавалерии.
Пабло злобно сопел, глядя на Петро, но потом выдохнул и ответил:
— Ты прав. Я взял себя в руки.
Петро, Теодоро, Пабло и Пюка шли вперед вместе с другими. Теодоро чувствовал страх, от которого хотелось улыбнуться, рассмеяться, расхохотаться… Он тяжело задышал, казалось, вот-вот начнётся истерика, но смех отступил.
Раздались первые выстрелы, Пабло и Пюка упали. Теодоро бросился к Пабло, на боку у того была свежая рана.
— Ты живой? Ты живой? — повторял и повторял Теодоро, но Пабло молчал. Теодоро приложил пальцы к его сонной артерии. — Живой, живой…
Теодоро посмотрел на Пюка. Мозги Хосе были размазаны красным пятном по дороге. Над трупом в полный рост стоял Петро. Зачем-то он нагнулся, взял в руки немного мозгов Пюка, выпрямился и размял их в ладони.
— Петро, пригнись! — крикнул Теодоро.
Петро не обращал внимания. Когда его толкнули в спину, он повернулся, толкнул в ответ, сшиб обидчика с ног и ещё трех людей позади него. Петро поднял плакат шедшего рядом с ними, уже мертвого шудры. Плакат уже потоптали, жёрдочка надломилась. Петро поднял её острым концом вверх и пошёл в толпу. Порванный плакат волочился по земле, как перевернутое знамя. Петро скрылся среди паникующих и в дыме от благовоний, не отвечая на крики Теодоро.
Кто-то из убегающих запнулся о ногу Теодоро, другой врезался ему в бок. Снова раздались выстрелы. На Теодоро сверху упали чьи-то тела, повалив на землю. Он раздвинул трупы, взял под плечи Пабло и потащил его прочь.
Теодоро не помнил, как они выбрались. Помнил только, как свистели пули. Как замер, когда через Пабло перепрыгнула, не задев, солдатская лошадь без всадника. Как потом какой-то человек подбежал к Теодоро, затряс его за плечи, что-то кричал, и Теодоро отвесил ему удар в ухо, чтобы тот отпустил.
Император в тот день так и не вышел из своего дворца.
Кипу девятое
Петро, я принесла тебе маисовые лепешки, мясо и дичь. Женщины сказали, что охранники разломают хлеб на части: проверят на контрабанду. Тем более учитывая моё положение сейчас.
Я знаю тебя, ты захочешь раздать все другим, ты всегда считаешь, что рядом есть кто-то, кому это нужнее. Но, пожалуйста, прошу тебя, поёшь. Я знаю, ты сейчас зол, и не захочешь есть, пожалуйста, заставь себя, тебе нужны силы.
Не обращай внимания на деньги. Да, я потратила тебе на еду почти все. Но сейчас тебе это нужно.
Я говорила с жандармами, они не знают, когда тебя выпустят. Следствие по твоему делу всё ещё идёт. Суд назначен на 17 число. Женщины говорят, свидетелей нет — тебя должны оправдать.
Я не знаю, читают ли здесь записки, но я должна сказать тебе. Ты был прав, прав во всем! После смерти Пюка я все поняла. То, что отец обрезал мне волосы и выгнал из дома — подарок. Это больше не горе для меня, я обещаю, что больше никогда не заплачу
Твоя Нивес
Кипу десятое
— Готовься!… Пли!
Раздались выстрелы. Вдалеке в лесу взлетели испуганные птицы.
Выстрелы повторились ещё несколько раз. Пятеро человек подошли к мишеням посмотреть на результат. Карл по очереди подходил к каждому, объяснял ошибки.
Теодоро должен был стрелять во второй пятерке. Когда стрелки вернулись назад, он встал с остальными на рубеж. Петро оказался рядом с ним по левую руку. Теодоро зарядил револьвер, как со скуки учил его Джон.
Карл, поменял мишени, вернулся на место и скомандовал:
— Готовься!… Пли!
Теодоро выстрелил, сделал короткий вдох, и выстрелил ещё два раза. Всё. Стрелки опустили револьверы и пошли к мишеням. Петро не верил своим глазам:
— Ты только посмотри на это! Попал все три раза!
— Так же, как и ты.
Карл похвалил Теодоро:
— У вас в предках были кечуа?
Теодоро ничего не ответил.
— Что ж, экспедиция в Египет действительно была для тебя полезной, американцы научили тебя стрелять, — смеялся Петро, возвращаясь на рубеж. — Сумеешь повторить — начну бояться белой угрозы.
Пошла следующая группа стрелков.
— Готовься!… Пли!
Когда все отстрелялись, Карл провел повторный инструктаж, и все стали выходить на рубеж по второму кругу.
Выстрел, выстрел, вдох, выстрел… На этот раз Теодоро попал ещё кучнее. Тогда Карл сказал ему:
— Можете пойти и попросить вашу подругу снять с вас мерки, вы приняты.
Когда все закончили стрелять, Карл выстроил всех на рубеже и проговорил:
— Те, кто получил приглашения — приходите в следующий раз.
Стрелки начали расходиться. Карл остался поговорить с одним из них, а Петро и Теодоро прошли в дом, чтобы забрать Нивес. Она расположилась в зале, окруженная тюками хлопковой ткани, и шила фехтовальные костюмы для собрания. Теодоро не в силах сдержаться, с жалостью смотрел на её обрезанные волосы. Что может быть страшнее для юной девушки, чем обрезанные волосы? Теперь она некрасива, изгнана из семьи, без благословения отца ей никогда не выйти замуж…
— Нивес, собрание закончилось, пора ехать домой, — сказал ей Петро.
— Еще несколько минут, — попросила Нивес, только потом подняла глаза, — Теодоро! Добрый день, Теодоро, подождите! Вас же приняли, и вы будете учиться фехтовать? Я хочу снять с вас мерки.
Он успел подумать о том, сколько для Нивес сделал Петро по возвращении из арестного дома. Узнав, что Нивес добыла для него деньги, продав сшитое ей платье, он, не постеснявшись, одолжил денег у знакомых и купил последний выпуск дамского журнала по рукоделию и самую дорогую ткань. Вернувшись к Нивес, он сказал не спрашивать, откуда у него деньги и сшить два платья по лучшим выкройкам. Когда те были готовы, он, одевшись в одолженный у Теодоро парадный сюртук, притворившись благочестивым брахманом, воспользовался знакомствами из прошлой жизни и прошёл в дома двух знатных особ и подарил им платья, сказав, что они пошиты в салоне госпожи Нивес. Вернулся домой он с новой тканью, купленной на деньги, одолженные у других знакомых, включая и Теодоро. Уже на следующей неделе, когда одна из знатных дам появилась на вечере в новом наряде, и к Нивес пришли покупательницы.
Теперь Нивес подошла к Теодоро, держа в руках линейку, чтобы сделать мерки к костюму для фехтования на ножах. Как объяснил Петро, пошив костюмов был платой за то, чтобы их троих пустили на собрание. Нивес брала деньги только на материалы и обещала хранить работу в секрете.
Теодоро совсем не собирался учиться фехтовать на ножах, но не смог отказать Нивес. Когда она закончила, то сказала Теодоро:
— Знаю, вы сказали не возвращать вам деньги, которые мы с Петро одолжили, но этот костюм будет сшит для вас бесплатно, вы не будете платить за материал.
Пока Нивес доканчивала работу, Теодоро разглядывал поле для варгейма в зале. Как сказал Петро, Карл сам переделывал поле: вместо обыкновенного ландшафта пересечённой местности там теперь красовался императорский дворец и площадь перед ним. На столе ещё лежали инструменты, неприклеенные камешки для мостовой… Он говорил, что уже скоро, неделя, две и можно будет разыгрывать на нём битву.
Вскоре они вышли из дома Карла, и сели обратно в коляску ждавшего их ямщика. Был уже вечер, поэтому Петро зажег лампу. Долго молчали, пока Нивес не спросила Теодоро:
— Вы говорили, что начали писать роман?
— Да, я решил назвать его «История моего предка».
— А как Пабло?
— Поправился. Раны уже заросли.
Так и прошёл почти весь путь, Теодоро скупо отвечал на редкие вопросы, пока Петро не спросил его прямо:
— На что ты обижен?
— Почему ты не сказал, что нас будут отбирать для боевой группы?
— А чего ещё ты ожидал от собрания заговорщиков?
— Я уже убивал до этого. И не хочу снова, — сказал Теодоро.
— Я помню твой рассказ о змеелюде, Теодоро, — отвечал Петро. — Совесть ценна, но может наступить момент, когда она сработает неверно, и ты предашь дело. Есть люди, которые действительно не люди. Те, кто каждый день эксплуатируют шудр — не люди. Есть, настоящие нелюди, которых надо пристрелить как бешеных собак. И те, кто им служит — не люди, а инструменты в их руках. Солдат — не человек, а цифра. В этой борьбе с чудовищами ты становишься человеком, перестаешь быть инструментом в их руках.
Теодоро в ужасе взглянул на Петро.
— Ты думаешь, что я не прав?
— Нет, только… Только…
— Только твой друг выжил.
Оба замолчали. Теодоро решил рассказать Петро:
— Я нашел в Западной пустыне отряд инкских воинов-кечуа из похода Синчи Рока. Они погибли в песчаной буре. Они умерли до того, как император развернул свою армию. Я думал об этих людях. Они шли уверенные в цели, которую перед ними ставили, но потерялись во времени и пространстве, так и не достигнув той цели, которую потом и вовсе отбросили. Я написал повесть о них, и хотел бы чтобы ты взглянул.
Петро наклонился ближе к Теодоро и сказал ему:
— Ты ведь никому там и не говорил о своих находках? Я буду рад почитать, друг.
Коляска остановилась у квартиры Теодоро, и уже пора было выходить. Теодоро спустился с подножки первым, и пока Петро подавал руку Нивес, он первым увидел их. Теодоро выхватил револьвер, крикнул:
— Стоять! — и прицелился.
Чуть ранее Неемия опять сидел на чурбане и рисовал ту румяную девочку, попросив её держать на голове красное яблоко. Он хотел увидеть её сдержанной и сосредоточенной.
В очередной раз подняв глаза от рисунка, Неемия не увидел девочки, но дюжину шудр, с дрекольем в руках. Девочку схватили зажав ей рот, а над Неемией навесили топор, прижав палец ко рту. Выбили дверь, детей забросили в дом.
Семья Моденских тогда делила свою комнату с двумя другими семьями — Абрахам собирал у себя родственников и
На каждого взрослого набросились по одному или по двое, били топором, вилами, ковшом, палкой, скалкой, палкой, лопатой, топором, поленом, палкой, сковородой, топором, лопатой. Всё
Девочка вырвалась, прокусив руку державшему её шудре, и Неемия следом за ней сумел выскочить. Дети выбежали на дорогу, за ними вышли и снова схватили, хотели унести обратно в дом. Их остановил только крик Теодоро:
— Стоять!
Остановились. Петро также встал рядом с Теодоро, обнажив пистолет:
— Отдайте детей! — кричал он. — Иначе мы будем стрелять.
Стояли. Двое держали детей, один оглядываясь, направлял в сторону Теодоро и Петро топор. В доме Моденских кричали взрослые.
— Мы не будем повторять вновь! — продолжал кричать Петро. — Отдайте детей! Тронете их — мы стреляем! Сделаете хоть шаг в дом, и мы выстрелим!
Теодоро взглянул на Петро. Его взгляд был злым и азартным, Теодоро видел в его глазах желание выстрелить, убить.
Теодоро выстрелил. Он метил в бедро того одинокого шудры, но, упав, тот схватился за кровоточащую рану на животе, мучительную и смертельную. Теодоро лишь не хотел, чтобы Петро оказался сломлен, как и он.
Шудры отпустили детей, повыскакивали из дома Моденских. Нивес бросилась к детям и повела их в квартиру Теодоро. Он же, бросив Петро ключи, сказал, что позовет знакомых испанцев.
Он вернулся с подмогой через полчаса, когда в его квартире уже были жандармы. Нивес, Петро, Теодоро и детей жандармы долго не допрашивали. Теодоро сначала хотели обвинить в убийстве, однако узнав об испанском погроме, жандармы быстро ушли. Друзья Абрахама согласились забрать детей.
Вскоре Теодоро и Петро, по просьбе испанцев, пошли в барак помочь хоронить мертвецов.
Кипу одиннадцатое
Проснувшись утром, Теодоро протянул руку к тумбочке, достал мешочки с кокой и щелочью и зажевал. Полежав ещё немного, он наконец умылся и достал из шкафа два сюртука. Один старый, который он всегда надевал в университет, другой новый, купленный для встреч с Санерой. Думал ещё насчет пончо, но это было бы чересчур. Всё-таки выбрал старый сюртук, новый превратил бы день в карнавальный. Теодоро надел черные брюки, старый сюртук, до блеска начистил сапоги.
Положив в сумку книгу, он вышел из дома и сразу отправился к университету. Он вел себя как обычно, здоровался со спешащими на лекции студентами, кланялся амаута.
Уже неподалеку от университета он заболтал с Уайной, ячапа с кафедры истории средних веков.
— Вы зря не пришли на вечер у Кристиана Капака в воскресенье. Приезжал буддийский монах Гектор, мы с ним с удовольствием обсудили строительство ступы в Афинах. Тем более вам следовало присутствовать там, в свете скоропостижной смерти матери Кристиана, госпожи Капак.
Теодоро не волновала смерть распутной старухи, но он пытался держаться приличий:
— Могу только соболезновать ему. Я знаю о приезде Гектора, и был бы рад послушать ваш разговор. Но я был приглашён на встречу к господину Карлу Фернандесу, мы отдыхали на его даче.
— О, я слышал, что Карл фанат варгейма. Наверное, вы провели весь вечер в игре?
— Да, Карл, привил мне и другим приятелям любовь к своему хобби.
Оглядевшись по сторонам, Уайна нагнулся поближе к Теодоро и шёпотом сказал:
— Тебе передали, что вчера вечером прошёл обыск в кабинете Алехандро Тираски?
— У него нашли запрещённую литературу, — ответил Теодоро. — Вот же догадался, хранить те книги в кабинете.
Оба замолчали, увидев приближавшийся к ним отряд жандармерии из четырёх всадников, вероятно отправленный на подавление очередной стачки. Когда отряд проскакал мимо них и удалился, Уайна продолжил:
— Да, с этим дураком ясно, что ему и не подбрасывали ничего. Я за тебя опасаюсь, Теодоро.
Алехандро, найдя под развалинами Кордобы древнюю стоянку гуннов принял предложение о сотрудничестве от ячапа Коломо. И теперь, когда Алехандро должны были уволить за хранение запрещенных книг, находка целиком переходила в руки ячапа.
— Не волнуйся за меня.
Уайна кивнул и продолжил якобы светскую болтовню.
— Знаете, я также присутствовал на встречах господина Фернандеса для игры в варгейм, — Уайна сделал многозначительную паузу. — Мы разыгрывали битву в Мадридском заливе. Господин Модесто соорудил для этого специальное водное поле, мы подталкивали корабли палочками. Кстати, когда мы разыгрывали битву, то, на удивление, победа в ней досталась японской стороне.
Теодоро с Уайна ещё поболтали о битве в Мадридском заливе, о монахе Гекторе, а также новой коке от Филиппо Маурицио, мягкой и очень бодрящей, но слишком уж дорогой. Когда они вошли в университет, то еще раз по-заговорщицки кивнули друг другу и разошлись.
Зайдя в свой кабинет, Теодоро первым делом достал из сумки книгу и сел читать.
Через несколько минут в дверь постучали. Теодоро крикнул, что дверь открыта, и к нему вошла группа людей, шудры, возглавляемые амаута Авака. Он ждал этого уже несколько месяцев, зная, что рано или поздно они придут, чтобы отобрать его работу. Теодоро притворился удивленным и спрятал книгу под стол.
— Здравствуйте, амаута Авака. Что-то произошло?
Амаута Авака протянул ему желтый лист бумаги, подписанный деканом факультета и заведующими кафедрами.
— Тайный информатор сообщил, что вы состоите в круге распространения запрещенных книг. Это разрешение на обыск вашего кабинета. Однако, как я полагаю, обыск проводить не нужно. Пожалуйста, покажите книгу, которую вы спрятали под стол.
Теодоро спокойно вынул её
Авака торжествующе произнес:
— Эта книга оскорбляет священную историю Инкской империи. Пожалуйста, покиньте кабинет, завтра состоится дисциплинарное заседание. Вы догадываетесь, каковы будут его итоги?
Теодоро ответил:
— Разрешите забрать личные вещи. Коку, виски.
— Пожалуйста.
Собрав вещи, Теодоро спокойно поднялся
В коридоре Теодоро ждал отец. Они пожали руки, молча вышли из здания университета, где стояла карета, и поднялись в неё.
— Как у тебя получилось заплакать?
— Это луковый сок, подруга Петро посоветовала, — Теодоро достал из кармана флакончик и показал его отцу.
— Мне жаль, что наша ссора зашла так далеко, что примирить нас позволил только подлог.
— Папа, — покачал головой Теодоро, — не надо. После нашего последнего разговора я понял вас. Я был не прав. Вы выслали мой настоящий журнал?
— Да, всё согласно плану. Уже завтра твои настоящие записи опубликуют в Вестнике Фиванского университета.
— Спасибо.
Отец и сын замолчали.
— Теодоро. Я не читал, твоих записей, потому что понимаю, что ты не хочешь, чтобы кто-то ещё знал, что в них… Всё-таки скажи, что в этих ящиках?
Теодоро покачал головой.
— Спасибо, папа. Я верю вам. Но подождите выхода журнала.
Оставшуюся дорогу они ехали молча. Они распрощались у дома Теодоро.
У порога дома Теодоро нашёл конверт, откуда достал письмо от Санеры. Её всегда прежде аккуратный почерк дрожал:
Теодоро,
я устала от того, что в вашей жизни я нахожусь где-то на заднем плане. Мы договаривались, что вы придёте на вечер Кристиана Капака, но вы снова решили, что это выше вас. Я терпела в первый раз, во второй, терпела, когда вы явились в этом футуристском пончо на бал в дом моих родителей. Но я устала, и так больше не могу. Вы понимаете, в каком свете вы меня выставляете? Пожалуйста, больше не пишете ко мне. Больше не будет прогулок по проспекту Мачу-Пикчу…
Теодоро не стал дочитывать. Ему вдруг показалось, что улица будто покалечена. Это ощущение вдруг породнилось в его голове со строчкой: «На прокрустовом ложе меж двух спин», которая стала преследовать его, после того как его зажали в толпе на рынке. Теодоро поднялся в свою квартиру и записал:
из страны закрытых дверей
по улице искалеченной
возвращаюсь в свою хату с краю
на прокрустовом ложе меж двух спин
умирает там
любовь
Теодоро глядел на лист, где видел конус тупой боли, зазубренное острие копья. Так вот как пишутся стихи.
Кипу двенадцатое
Теодоро воспользовался своим отстранением, чтобы поехать в Калифорнию, в гости к Джону. Вместе с ним захотел поехать также и Пабло, объяснив это тем, что никогда не ездил в другую страну, посетит, хотя бы, оккупированный регион. Теодоро согласился, правда, не сказал другу, что также должен был встретиться с калифорнийским агентом из собрания и забрать у того конверт с секретными документами.
Уже на следующий день они сели на ближайший поезд до
— Ну, как тебе поезд?
Пабло отвечал ему с горящими глазами:
— Шумно, быстро — прекрасно! Мы ведь уже к вечеру доедем?
— Да, к середине дня доедем до
— А до
— До Сакраменто? — Теодоро сам не заметил, как назвал старое название города, использовавшееся до его присоединения к империи. — К вечеру.
— Как быстро. А если бы мы на лошадях ехали?
— Недели полторы.
— Как же всё-таки быстро, поразительно! Прекрасно!
Когда же проехали Малый Куско, Теодоро рассказал Пабло:
— Этот участок дороги — один из самых старых в мире. Его ещё португальцы строили. Территория эта досталась Империи 36 лет назад по Лиссабонскому договору 5817 года. А сама дорога построена в 5815. Ей уже 38 лет.
— Это же многие из тех, кто на ней ездили уже умерли?
— Все умрем рано или поздно, — пожал плечами Теодоро. — Жаль, что её не ремонтирует никто. Выкупили у португальцев технологию строительства, да не пользуются ей — соединили Атун-Куско, Атун-Мадрид да
словно птица
начинает веселиться
поезд молодой
как ребенок озорной
скатился с горки и хохочет
мчится поезд и грохочет
мчится мчится поезд в день
мчится мчится поезд в ночь
мы отвлеклись на разговор
за беседою беседа
карты и вино с ночи до утра
далеко от дома глянь в окно
леса леса
столбы столбы
поля поля
а там уж и вокзал
вечер поезд ленится идти мы сходим
в гостинице хотим оставить сумки и поспать
но придя грустим
и ведем беседу до утра
— Прекрасно! Да, именно так все!
После выхода из поезда, Теодоро первым делом повел Пабло покупать билеты обратно. Теодоро потом спокойно положил их в надёжное место в дорожной сумке, а Пабло всё перепрятывал и перепрятывал, боясь потерять.
Они сразу поехали поехали в гостиницу, чтобы оставить сумки. В номере они разобрали сумки. Первым делом Теодоро откупорил бутылку вина.
— Мы же вчера пили, на проводах? — удивился Пабло.
— И что? — спросил Теодоро, отпивая из бутылки.
— Ты слишком часто и много пьёшь.
— Учитывая, что я дружу с Петро, это ещё совсем мало! Не будешь? — Теодоро протянул Пабло бутылку.
Тот взял бутылку, сделал глоток. Теодоро всё рассказывал о Сакраменто, а чуть позже купил еще бутылку вина.
— Что ты хотел бы посетить в городе?
— Я бы хотел попасть на службу в церковь.
— Это только послезавтра, в воскресенье, — пожал плечами Теодоро.
Наконец, прогулка по городу, две бутылки вина дали результат — Теодоро ушел спать, потом и Пабло.
Утром Теодоро проснулся первым. Если бы Пабло не спал, он бы попросил его сходить за водой. Теодоро зажевал коки, чтобы хоть чуть-чуть оправиться, поднялся, умылся, сам взял кувшин для питья у хозяйки, а потом сходил за чаем и соньюшами.
Через пару часов, когда Теодоро уже съел все свои соньюши, и стал уже поглядывать на те, что купил для друга, он растолкал Пабло.
— Ты уже долго спишь. Хочешь дальше смотреть город — пора вставать.
— Да, ничего, я встаю, — отвечал Пабло, поднимаясь на кровати. — Долго не мог уснуть вчера.
Пока Пабло ел, Теодоро поделился планом прогуляться по городу и зайти к Джону. Теодоро рассказал несколько историй о Джоне из экспедиции, а также, что отправил ему письмо, и что он уже ждал их.
И Теодоро поймал себя на чувстве, что он не рядом с Пабло, не здесь. Он уже в доме у Джона, тот созывает всех детей помолиться перед едой, а Сара расставляет стряпню на обеденном столе. Он вспомнил, ту близость, которая появилась у него с американцами в экспедиции. Теперь казалось, что,
Пока Теодоро рассказывал Пабло об архитектуре вокруг, они прошли мимо здания почты.
Вдруг позади них раздался взрыв. Теодоро успел крикнуть только:
— Ложись! — и уронить Пабло на землю вместе с собой.
У Пабло гудело в ушах. Вокруг лежали обломки здания, обгоревшие письма. Кричали, плакали, бегали из стороны в сторону люди. Теодоро лежал сверху на Пабло, уткнувшись носом ему плечо, не двигаясь. Пабло почувствовав что-то теплое на своей шее, с ужасом толкнул в грудь Теодоро и сбросил с себя: Пабло был весь в крови Теодоро. Сначала он прикрыл раны руками, потом с криком куда-то поволок тело.
Это был первый из совершенных американцами терактов во время инкско-японской войны.
* * *
Япония атаковала Инкскую империю 5 января 5853 года (8 сентября 1812 года по новому стилю). Предлогом стала поддержка американского движения освобождения от Португалии. Без объявления войны японский флот вторгся в воды Калифорнийского залива, что, как описывают историки, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Руководство инкского флота отреагировало незамедлительно, отправив Непобедимую Армаду в самоубийственную атаку. Оснащенный пароходными судами и передовым вооружением флот смял традиционно-парусную Непобедимую армаду. Только 1 из 9 инкских флотилий смогла вернуться в Калифорнийский порт, однако, уже на следующее утро и она была уничтожена подоспевшими судами японцев. Тем не менее, гибель Непобедимой Армады не была напрасной: ей было уничтожено 2 из 7 японских флотилий, что значительно задержало вторжение.
Калифорния раскололась на две части. В восточной, первой попавшей под удар японцев, тут же было сформировано американское ополчение, поддерживающее нападавших. Ополчение организовывало бунты на заводах, грабило и сжигало дома инкских помещиков. Отличительной чертой начального этапа войны стали массовые теракты, устраиваемые американскими националистами, которых поддерживала японская разведка. Положение в западной Калифорнии было чуть более спокойным, однако каждый день поступали сообщения о подрывах важных стратегических объектов смертниками-американцами.
Содействующих японцам американцев приговаривали к казни, начались массовые задержания и допросы. Правительство южной Калифорнии отличилось самым замечательным образом, объявив, что протестные настроения среди американцев распространяют испанцы. Начались новые испанские погромы.
Весть о гибели Непобедимой Армады, незамедлительно начавшиеся артиллерийские обстрелы вызвали в провинции массовую панику. Вышел внеочередной выпуск «Еженедельника Инкской Империи», состоящий из одного тонкого жёлтого листа и призывавший граждан прекратить массовую панику, и приступить к организованной властями эвакуации. Тем не менее, по всей Калифорнии люди в ужасе собирали свои пожитки, и хаотично покидали города, направляясь в сторону Мадрида, Барселоны и Куско, а ямщики заламывали в десять раз большие цены за перевозку вещей.
Первую неделю с начала войны Атун-Куско гудел только о разгроме Непобедимой Армады. Жители требовали, чтобы правительство отреагировало, вывело войска на борьбу с японцами. Те, кто чуть лучше разбирался в обстановке, понимали — Империи нечем ответить. Спустя неделю это стали понимать и другие жители, началась самая массовая миграция населения в истории Империи. Однако большая часть всё-таки была уверена, что Япония остановится на Калифорнии и не пойдёт в атаку на Куско.
Стало ясно: пал последний оплот, сохранявший Империю от уничтожения, — твердыня уверенности инков в могуществе собственной империи. Империя тогда уже представляла собой молодящуюся распутную старуху, разукрашенный ходячий труп. Ведь уничтожили империю не артиллерийские обстрелы, не просчеты главнокомандующих, не мощь японской армии и даже не сломленный уничтожением Непобедимой Армады боевой дух. Эти удары лишь высвободили энергию энтропии индивидуальной жизни каждого жителя Империи. Кто-то любил империю и честно служил, кто-то хотел отхватить себе от её богатства кусок побольше, а
* * *
Футуристы вечерами собирались на квартире Петро и Нивес. Обсуждали слухи, последние новости. Говорили и о Пабло и Теодоро, от которых не было слышно ничего, предполагали самое худшее. Единственным, кто сохранял спокойствие, был Петро:
— Я уверен, они целы.
— Тогда почему от них нет ни одного письма? — беспокоилась Нивес.
— В Калифорнии сейчас творится полный бардак. Может быть, письмо дойдёт завтра или через неделю. На месте Теодоро и Пабло я пошёл бы добровольцем в армию или волонтеры. Уверен, что они так и поступили.
— И как они смогли бы попасть в армию?
— У меня есть как минимум три варианта, — ответил Петро.
— Мы тоже должны вступить в войну, — проговорила Нивес.
Все стали спорить с ней, говорить о том, что это невозможно, их не возьмут. Петро встал на стул и громко ударил несколько раз в стену, чтобы остановить шум.
— Вам должно быть стыдно, — начал он. — 15-летняя девочка храбрее вас всех вместе взятых. Мы должны принять участие в войне, как это сделали бы Теодоро и Пабло, как хочу поступить я. Того же самого должны желать и вы. Нужно поговорить с Карлом, возможно, он устроит нас.
— Пятнадцать человек? Увольте, слишком много, подвох вскроется быстро.
Уже на этой фразе Петро разуверился в остальных и выключился из обсуждения.
— Тогда мы должны действовать открыто. Выйдем на улицу и потребуем допустить нас к призыву.
— И кто же нас послушает? Нас разгонят уже через десять минут, нас слишком мало.
— Тогда мы напишем письмо самому императору! Он оценит нашу преданность.
— Да, верно!
Тут же нашли чистый листок, ручку. Письмо подписали все, кроме Нивес, которой, не смотря на её желание уйти в санитарки, запретил Петро. Отведя её в сторону, он шепотом сказал ей:
— Я не верю, что это даст результат, но если даст — ты не должна будешь пострадать. Тебе ясно?
Сам же Петро равнодушно подписал письмо.
К концу вечера футуристы стали расходиться по домам. Нивес и Петро вскоре легли спать. Уже рано утром Петро поехал к Карлу обсудить дела.
* * *
— Вы не слышали? Подозревают, что против императора готовился заговор.
— Да, я читала об этом сегодня утром. Уже задержали первых подозреваемых — Уамана Уму-Туллу. Имя его сына назвали во время допроса другие задержанные. Правда, он куда-то исчез.
Теодоро услышал краем уха разговор двух медсестер и ушёл на прогулку. Ему удалось не показать эмоций, ведь он сам уже всё прочёл в утренней газете.
Госпиталь, в котором остался на лечении Теодоро, переместился на территорию одной из крепостей старого Сакраменто. Когда его отдали на лечение, Теодоро повезло, и врач, заполняя карту сделал описку, превратив того в Теодоро Уму. Стены и башни, за которыми в мирное время с семьями жили солдаты Калифорнийского гарнизона, были построены ещё в средние века. Эта крепость была американской, затем португальской, затем снова американской. Потом инкской. Скоро её отобьют японцы. Тысячерукая и тысячеротая, похожая на сидианского бога, вражеская империя, злым демоном шла сюда.
Когда он вернулся в сознание, Пабло рядом с ним не было. Как ему сказал один из пациентов госпиталя, солдат с маленькими ручками и бегающими глазками, первый день Пабло был рядом с ним. А потом купил поддельный греческий паспорт и свинтил. Теодоро не верил ему, но по сожалеющим взглядам других солдат, понял, что это, скорее всего, было правдой. Больше Теодоро и Пабло не виделись никогда.
Теодоро часто останавливался перед сожжённым домом рядом с крепостной башней, уже не раз переходившей из рук руки и теперь обнаженной, так что было видно, что внутри, склонился под артиллерийскими ударами японцев, как распутная Вавилонская башня. Дом был разрушен пожаром и брошен ещё до войны.
Теодоро заметил и поднял из золы листок обгоревшей бумаги. Это был лист из американской детской книжки со стихотворением:
Снегу наплыло
Белым бело.
И падала ель,
И ела оленя,
Ленивой ногой
Пиная влево.
И было весело
Белой ели
Жевать оленя.
Теодоро знал, что это лишь шуточный рождественский стих из детской книжки, но перед глазами возникла сумасшедшая буря, вырывающая с корнями деревья, волочащая их по земле, праздник хаоса и абсурда, где всё переворачивается с ног на голову. Теодоро услышал чей-то неразборчиво говоривший голос. Он осмотрелся по сторонам, не заметив никого, понял, что ему померещилось. Тогда стало казаться, будто и покосившаяся крепостная башня, и запах гари, и обгоревшие страницы детской книжки — всё вокруг кричало ему об одном. О конце.
Теодоро решил сделать то, что должен был. Он вернулся в госпиталь и сообщил врачу своё настоящее имя, чтобы вскоре быть отконвоированным домой в
* * *
Новость о письме футуристов попала во все газеты Куско. Воспользовавшись связями с издателями, они подняли шум вокруг своего предложения властям, таким образом, надеясь обязать императора ответить им, но ответа не было.
Через неделю после собрания, Нивес проснулась утром в пустой кровати. Петро не было. Она предположила, что он ушел за кокой, которая кончилась вечером, и скоро должен был вернуться. Умывшись и одевшись, она приступила к работе.
Петро всё не было. Нивес думала, что он решил зайти в магазин в конце улицы, тогда он должен был бы вернуться через акули. Но он не вернулся через акули. Не вернулся он и к вечеру, и к утру, и на третий день, и через неделю.
Нивес ходила ко всем знакомым и друзьям Петро, но никто не знал, где он, он просто исчез, не сообщив никому. Последним Нивес посетила Карла —
После того разговора она несколько дней пролежала на постели в слезах. Когда же она пришла в себя, то оказалось, что подошли сроки для сдачи платьев. Нивес раздала заказы другим знакомым швеям. Вернувшись в пустую квартиру, она достала бритву Петро и долгое время сидела на кровати, зажав ее в руках. Но потом она отложила бритву, взяла перо и листок и написала короткое письмо:
Я не позволю тебе вечно меня защищать. Твоя Нивес.
После чего Нивес поехала к Карлу, сказала, что догадалась об их уговоре и потребовала, чтобы он отправил это письмо Петро.
— Я не требую, чтобы вы сказали, где он, знаю, что вы не предадите его. Но, пожалуйста, отправьте это письмо.
Тот сначала отказывался, но в итоге сдался. На следующий день Нивес пошла в Храм Солнца, где ей сбрили только начавшие отрастать волосы, оставив уродливую челку. Её приняли в служительницы Храма Солнца и вскоре отправили в Калифорнию с корпусом медсестер.
* * *
Петро упал.
Сначала была резкая боль, потом он не чувствовал ничего, потом боль налегла так, что уложила на пол.
Они отстреливали из окна идущих на штурм японцев. Петро убил пятерых, но шли, шли, шли. Уже рядом. Вот один впрыгивает в окно, падает замертво от пули Петро. Другой влетает в окно, убив товарища Петро, но сам был убит Петро. Третий
А Петро лежал придавленный болью. Ни сдвинуться, ни пошевелиться.
Неожиданно эйфория. Петро лежал в четырёх стенах, глядя в каменный потолок. Всё читалось в статике неровностей на потолке, в пятнах на месте обсыпавшейся побелки, отдалённо напомнивших облака.
Петро стал спокоен. Он не видел ни леса, ни неба, ни людей, только неровности и пятна на потолке, мнимые облака, которые убаюкивали его сказкой о вечности, в которой нет боли, нет ничего. Позади ещё были слышны выстрелы, но Петро было уже всё равно. Взгляд Петро стал размываться, неровности и пятна исчезали, но теперь ему было уже всё равно. Он лежал тут рядом с тремя людьми, уже встретившими вечность, он уже готов был к тому, что больше не выйдет за эти четыре стены, под землю через потолок останется трупом.
Как вдруг его подхватили и потащили. Мутными глазами он еле различил цвет формы — свой. Отбили. Но к этому Петро был уже равнодушен и потерял сознание.
Резкая боль, пробуждение. Чьи-то голоса, твердящие, что японцы наступают, их нельзя принять в госпиталь, необходима эвакуация, нет мест, никак нельзя, раненые в давке во время паники, нет, только приняли раненых у отступивших солдат, никак нельзя, хорошо, мы примем их. Глаза закатываются и снова ничего.
Боль, выплывание
Снова в сознании. Стоящий у кровати врач спрашивает имя. Петро говорит имя.
Тошнит от этой качки. Видно напротив кровати кричащего, хирург перепиливает ему кость предплечья, виднеющуюся из раскрытого лепестка кожи и мышц. Солдат кричит, кричит, замолк, потеряв сознание. Хирург окончил работу, накладывает лоскуты кожи и куски мяса на кость, формируя культю. От этого зрелища тошнит, тошнота кружит голову, головокружение сворачивает разум обратно в ничего.
Ничего. Ничего. Ничего.
* * *
Нивес отправили на передовую. Ей польстило удивление монахинь её рвению. Она красовалась перед ними отточенной лукавой фразой, которую она придумала, пока шла к храму Солнца:
— Я хочу помочь инкскому солдату!
Ей было тоскливо ехать на поезде среди монахинь, которые говорили между собой только о стирке, еде и чтении. Кто-то шил, кто-то читал книги по медицине, кто-то медитировал. Во время богослужений она справляла обряд и ждала, что все удивятся её хорошему знанию молитв, она уже заготовила трогательный рассказ о любимой нянюшке, но никому этот рассказ не был нужен. Она спрашивала женщин сама, как те оказались в Храме Солнца — всех их предназначили к служению родители, все они воспитывались в Храме. Её же история была никому неинтересна. Тогда она спрашивала их об обете безбрачия, как они справляются без мужчин, но эти женщины отвечали ей одно и то же, что им неинтересны и безразличны мужчины.
Нивес постоянно наблюдала за странными на её взгляд женщинами. Особенно её удивило, как врач лечила рану солдату в паху. Она ожидала увидеть в её глазах смущение, может быть, интерес, но была только сосредоточенность.
Когда к Нивес обращались пьяные солдаты, она говорила только одну отточенную лукавую фразу:
— Я — не твоя, я — другого.
Солдаты, конечно, думали, что она о служении Виракоче. Она же выполняла служение своему богу. Она убирала посуду, утки, перевязывала раны, с каждым приказом об отступлении работы было всё больше. Все трудности она переносила стойко благодаря любви к Петро. Она с надеждой вглядывалась в лица раненых в абсурдных поисках Петро. Она договорилась проходить в мертвецкую, где со страхом разглядывала трупы, наврав солдатам, что боится за брата.
Она перевязывала ампутированную ногу пленному японцу, когда внезапно услышала разговор двух солдат.
— Слышал, что поймали брахмана, который выдавал себя за кечуа. Его сейчас везут в тюремном конвое в
— Побольше бы не сидело в университетах, а шло к нам.
Солдаты отвлеклись на обсуждение новой коки, которую теперь стали бесплатно выдавать солдатам, мягкой и очень бодрящей. Закончив перевязку, Нивес подошла к солдатам и спросила их, как зовут этого брахмана.
— Не помню его имени… А, самое смешное же как раз в имени… Он был ранен, и когда его привезли в госпиталь, он сказал своё настоящее имя… Его звали то ли Хулио, то ли Петро.
— Петро Кахуа?
— Точно, Петро Кахуа.
Нивес, подскочив, обвила руками шею солдата и поцеловала его. Нарушив таким образом обет безбрачия, она перестала быть Девой Солнца.
— Спасибо тебе, — сказала она солдату, вышла из корпуса и рассказала всё первой же встреченной Деве Солнца.
— Мы догадывались, что ты была неискренней, придя служить Виракоче. Иди к своему жениху.
Нивес ничего не теряла, так как уже была парией, она только нашла потерянное. Уже к вечеру она отправилась в
* * *
Из дневника Теодоро Уму-Туллу от 15.10.1812
Манко Нагата я встретил во время ареста. Его конвоировали в Куско, обвиняли в дезертирстве и шпионаже. Он говорил, что в Куско начались аресты христиан. В третьем отделении нас заранее считали предателями и заговорщиками. Тогда отец Манко решил, что им пора бежать из Империи, решил вернуться в Японию. Они могли уехать за границу под видом визита к родственникам, но Манко и младшего брата призвали на фронт. Если бы они поехали вместе с отцом, матерью и остальными, то их схватили бы на границе, поэтому семья Нагато разделилась. Уже на фронте братья получили письма, что семья спаслась, тогда они попытались сбежать через леса. У младшего брата получилось, у Манко — нет.
Манко говорил, что когда началась война, это было как озарение. Раньше он думал, что служит Богу тем, что служит стране. Тогда он понял, что ему придется убивать. Поэтому его узы — это наказание от Господа. Он каялся, и говорил, что может быть, Господь оставляет его в Империи, чтобы он ещё
Я рассказал Манко, как сам решил сдаться. Он начал говорить о Боге, а я тогда — может, я и поверил бы даже в вашего Бога. Но теперь уже все закончилось, Империя разрушена, причем даже не нами, мы не сможем ничего построить на её останках, нас с отцом казнят по моей вине. И как в это время поверить? А он — У тебя будет какое-то другое время, когда настал конец времен? Манко отыскал притчу о сеятеле и продолжил, зачитал: «иное (зерно) упало в терние, и выросло терние и заглушило его». Зерно — это слово, которое убивают «заботы века сего». Это и обо мне, когда я думаю, что теперь, после войны, всё одинаково бессмысленно. Хаос истории кажется мёртвым и сотканным из случайных событий. И история человечества действительно такова, представить только, что если бы кто-то из великих решил поступить по-другому? Может, гунны захватили бы Египет и Империю, и теперь все здесь были бы гуннами? Инки проиграли бы битву за Барселонский залив и японцы передали бы контроль за ним грекам, может те стали бы самой богатой в мире державой? Синчи Рока не передумал бы вести войска вперед, его армия была бы сломлена, как коса налетевшая на камень, и империи никогда не образовалось бы? История — это цепь случайностей, очень часто злых случайностей. Человеческая история. Отсюда и всё равно — сидианин, христианин, неверующий. История человечества — это рассказ о хаосе, а в хаосе всё равноценно, всё одинаково бессмысленно.
Война уничтожила человеческую историю. Точнее она уничтожила идолы, вроде империй, политиков, языческих богов. И теперь, когда я увидел, что вокруг только хаос, и всё мертво, то что же делать теперь? Воспользоваться той свободой, что дало сожжение идолов.
Есть другая история, история Бога. Это история колебаний человечества от Бога и к Богу. Это история раскрытия слова Господа, развертывание его плана по преображению этого мира через жертву Христа. Манко потому и привёл слова притчи о сеятеле. Может и правы те, кто теперь начал преследовать христиан: мы для них страшнее, чем заговорщики-террористы или захватчики, потому что свидетельствуем, что их царство не вечно. Ничего не изменится, если Инкская империя падет, она лишь полоса одуванчиков на поле истории Царства, любая империя бессмысленна рядом с Царством. Итак, если не видишь смысла в истории, обратись к тому, что вне её. Бог неизменен. «Нет ни иудея, ни еллина, ни обрезанного, ни необрезанного». Хоть и неясно, кто такие эти иудеи, но есть, есть другое Царство, которое может принять меня, всегда было.
Манко читал мне Евангелия и рассказывал о пророчествах, о Христе, три дня. Мы уже подъезжали к
Так теперь и получилось, что меня Господь определил на служение, а Манко на мученичество.
* * *
Ранним утром Теодоро сидел в коридоре главной тюрьмы Атун-Куско и читал Библию, оставшуюся от Манко. Только вернувшись в город, он узнал, что Петро арестовали
Неожиданно он услышал знакомый девичий голос, назвавший его по имени, и, подняв глаза, увидел Нивес.
— Я очень испугался, узнав, что ты исчезла.
— Мы все исчезали по очереди.
Теодоро рассказывал об отце, о его заключении, Нивес рассказывала о храме Солнца, Теодоро продолжал о том, как отец ослаб, как мать перед смертью, Нивес пересказала историю о своем поцелуе, Теодоро говорил, что теперь ухаживает за садом отца, Нивес сказала, что устроилась на завод, чтобы можно было покупать Петро еду в тюрьму.
Тогда в коридоре появился Петро без конвоя и без наручников, и Нивес бросилась к нему в объятья. Напуганные тюремщики объяснили, что освобождают Петро
Нивес отпустила Петро и обомлела, а он с растерянностью проговорил:
— Меня объявят героем революции за поданный пример внекастового поведения.
Позднее Теодоро оставил в дневнике поражающую откровенной символичностью деталь из описаний захвата императорского дворца. Большая часть штурмовавших погибла не от пуль охраны. Напротив, рой коммунистов быстро занял дворец, расстреляв на месте легко сдавшихся солдат, они двинулись к императорским покоям, по пути грабя убранство дворца, забирая картины, скульптуры, разбирая по кусочкам золотую и серебряную облицовку стен. Захватив императора и его семью и оставив дозорных, они рассеялись по дворцу маленькими группами, добивали слуг, насиловали и добивали служанок, грабеж продолжался всю ночь. Рассеянные, они постепенно сбивались в одну крупную свору, приходя, уходя и возвращаясь в одно место, а именно в императорский винный погреб. В
А пока Теодоро, Петро и Нивес вышли из тюрьмы в Перуанскую Коммуну.
Кипу эпилоговое
После революции Теодоро остался в Перуанской Коммуне, и, воспользовавшись предложением коммунистов, устроился на работу в университет, что позволило ему освободиться от воинской повинности, которой теперь подлежали молодые люди всех каст. Он мог содержать отца, у которого экспроприировали имение, оставив только маленький миндальный сад. Теодоро начал изучать историю раннего христианства, планировал поехать на археологические раскопки в Мадрид.
Самым пронзительным воспоминанием о том времени для Теодоро стала рубка деревьев в миндальном саду отца. Коммунисты ввели нормы засевов, за несоблюдение которых они отнимали землю, и Теодоро собирался вырубить лишние деревья, чтобы в то голодное время от сада осталось хоть что-то. Теодоро шёл к миндальному саду с топором в руках, а ослабевший отец плелся позади и просил его убрать топор. Когда он остановился у одного из деревьев, отец схватил его за рукав и попробовал отобрать топор. Теодоро отдёрнул топор, бросил его назад, удержал повалившегося отца за плечи. Отец Теодоро успокоился, сел на землю рядом с сыном и зарыдал, а Теодоро же вырубил лишние деревья на его глазах.
Спустя много лет после войны, после 12 лет лагеря, Теодоро написал очерк, благодаря которому стал вновь знаменит уже в наше время, а именно биографический очерк о послевоенной жизни поэтов-футуристов «Мотыли». Теодоро начал его с попытки понять причину, по которой был объявлен мир между Перуанской Коммуной и Японией. Он видел её в подвиге Дев Солнца, спасших множество жизней как инков, так и японцев, и последующем крупном обмене пленными. Фактически он сходился во мнении с большинством историков, что это было целиком случайное событие, дипломатическое чудо.
Далее Теодоро описывал страшные пожары, тут и там загоравшиеся по всему Куско, уничтожавшие государственное имущество и лишавшие жизни чиновников вместе с семьями. Поджоги продолжались несколько лет, пока Петро не выпустил в рукописный самиздат поэму «Жатва выжженной землей». Революционный Комитет Обороны провёл обыск в его квартире, который подтвердил его вину. Началось крупное расследование, в истории сохранившее название «Дело четырёх повешенных». Казнь террористической группировки прошла на границе Куско, ранним утром, второго января 1815 года. В их числе был и Петро. Последними словами Петро стали: «Лучше тьма, чем такой свет»,
Теодоро описал и смерть Нивес, будучи именно тем человеком, который обнаружил ее тело: «В предсмертной записке значилось: “Я иду за тобой». Милиция нашла в урне смятый листок, где было написано только перечёркнутое слово «Мы”. Душераздирающей представляется картина того, как Нивес стояла перед кроватью дочери с наведенным на неё револьвером, но опустила руку, так и не решившись на нажать на курок. Вероятно, затем она вышла в другую комнату и застрелилась».
О Пабло Теодоро упоминает один единственный раз, написав, что тот подделал паспорт и уехал в Грецию.
Вскоре милиция стала преследовать и Теодоро, когда со сменой партийного руководства развернулись гонения на религиозных меньшинств, и Теодоро арестовали за его научные публикации.
О лагерной жизни Теодоро пишет также скупо, лишь поясняя, что именно там, спустя несколько лет заключения, впервые был избран пастырем небольшой тайной общины инкских христиан.
Только вернувшись из лагеря, Теодоро узнал о смерти отца, умершего от сердечного приступа, пока тот был в лагере. Без друзей, без айлью, без той страны, он посвятил себя двум вещам — пастырству в церкви и поиску дочери Нивес и Петро, Кэти.
Он сумел найти дочь Нивес и Петро только тогда, когда милиция в очередной раз вернула её в детдом — 13-летняя девочка уже не раз сбегала оттуда, жила на улице, зарабатывая проституцией. Теодоро удочерил её и воспитал при церкви. Заканчивается очерк словами: «Я понимаю, что Петро сам никогда не услышал бы Господа, даже увидев его во всем величии на Суде, не принял бы его от своей бунтарской натуры, вслед за ним отвернулась бы и Нивес. Надеюсь, что когда мы встретимся с ними в посмертии на Суде, то я смогу указать им на Кэти и сказать: «Посмотрите, как она изменилась, благодаря Господу», и они уверуют».
Последние пять лет жизни после освобождения из лагеря Теодоро не раз предлагали сбежать из Перуанской коммуны, но он оставался твёрд в решении не покидать страну, говоря, что Бог хочет, чтобы он был здесь, рядом с этими людьми, и умер с ними, если понадобится. Вместе с тем, благодаря опыту приобретённому в сети распространения запрещённых книг ещё до революции, он наладил производство христианского самиздата в
Последней его богословской работой стало «Увещевание к миру», где он пытался объяснить заповедь «не убий». «Бог — живая личность, а потому мы должны исполнять его заповеди не потому что так принято, а потому что так говорит Бог, чтобы видеть его участие в нашей жизни, чтобы понимать его». Убийца лишает человека возможности раскаяться и прийти к Богу или же лишает его возможности послужить Богу, если тот уже стал христианином. Однако убийство — это результат греха, а именно действие человека ненавидящего ближнего. Ненависть, всегда связанная с неспособностью увидеть в другом другого — исток убийств. Теодоро призывал не только не бороться путем насилия с коммунистами, но и молиться за них, и стремиться их евангелизировать, так как это было лучшим способом борьбы с коммунизмом.
Именно за распространение рукописей Теодоро и был схвачен Карлом Фернандесом, после революции вступившим в коммунистическую партию, и позже расстрелян. Вскоре после смерти Теодоро, Кэти Кахуа эмигрировала в Египет, где стала одной из лидерок суфражисток, и уже в возрасте 19 лет возглавляла колонны мирных маршей. Налаженная Теодоро сеть самиздата, несмотря на постоянные аресты активных участников, сохранялась до свержения коммунистической партии, а церковь, где он был пастырем, и после конца Перуанской Коммунны, и после лихих девятисотых — по-прежнему действует.
Одной из самых трогательных составляющих наследия Теодоро Уму-Туллу стали стихотворения-напутствия, которые он ставил незадолго до смерти для своей приемной дочери Кэти. Вот одно из них.
больше
заваленного теста
неурядиц в школе
твоей ссоры с парнем
Бог больше
голода
войн
смерти
Бог больше
крыш многоэтажек
неба
космоса
Бог больше
тебя
Бог больше чем абсолютно
ценит
Примечания
[1] Для романа Теодоро Родригес заменил имена всех участников встречи, кроме Кристиана Капака и Хепри Фиванской именами древних инкских богов (прим. переводчика).
[2] «Кровопад» — одно из первых «вампирских» стихотворений Петро Кахуа. Вампирский этап его творчества начался с своеобразной интерпретации понятия траты из философии Уакаури Юпанки, то есть как следование абсурдной разрушительной страсти. «Когда богатый предприниматель спускает все деньги на одну любимую им продажную женщину, когда бандит становится главарем уличной банды после множества убийств и предательств, когда художник в полубреду вдохновения берется за кисть — это все траты», — писал Петро Кахуа. Трата всегда связана с властью над предметами, людьми. По представлениям Кахуа, категория существования небинарна, то есть не ограничена существованием и несуществованием, а выражается количественно во влиянии на объекты и субъекты. «В сильном государстве император беспомощен» — один из самых знаменитых афоризмов поэта. Государство является более реальным, в то время как одержимый идеей империи правитель оказывается для неё средством, инструментом и самым несвободным человеком. Так и появляется такой характерный персонаж как «вампир Кахуа», который стремится обрести вечную жизнь через приобретение как можно большей свободы с помощью разрушения, нарушения табу, с другой стороны одержимый контролем и жаждой власти (прим. переводчика).
[3] «Война льва и обезьян» — древняя поэма, пародирующая Мадридиаду. По легенде, у Мадридиады и «Войны льва и обезьян» был один автор, неизвестный древний испанский певец. Лев аллегорически обозначал Мадрид, а обезьяны — инкские войска. Амаута Лекко, автор комментариев, на основе «Войны льва и обезьян» выводил архетипический сюжет поедания отца изгнанными сыновьями, по его мнению, составляющий основу европейской культуры.
