Вертов говорит по-французски

Поэзия, концентрирующая в мысленных образах, рифмах напряжение реальности, способна эту самую реальность приумножить. Создавая бесчисленное множество магических конструкций, в которых столь же разнообразным способом взаимодействуют сущности реального, поэт вопреки магии слова остается верен действительности — поиску человеческой истины, часто возможной только через магическое. Магия, возникающая из взаимодействия реальных образов, в руках неистового искателя обнаруживается лучшим способом достижения правды. В случае с Жаном Виго — правды кинематографической или вертовской кино-правды.
Сравнение с Вертовым не случайно по ряду причин, первая из которых фактическая: каждый из трех фильмов Виго был снят братом Дзиги Вертова и Михаила Кауфмана — ответственных за ключевые картины авангардного документализма «Человек с киноаппаратом» (1929) и «Кино-глаз» (1924) — Борисом Кауфманом.
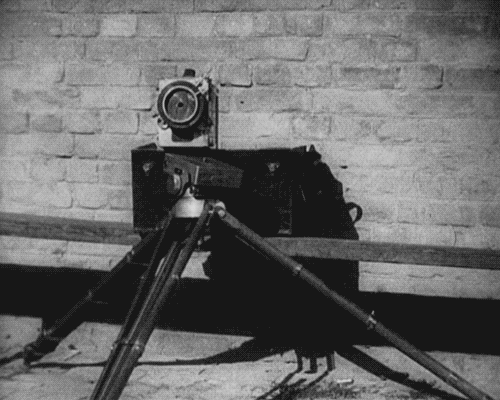
Перенесение эстетической конъюнктуры Вертова в случае с операторской работой Кауфмана кажется потому отнюдь не случайной в фильмах Жана Виго и в особенности в его первом документалистском опыте, навеянном, по словам самого Кауфмана, двумя фильмами Вертова — «По поводу Ниццы» (1930).
«Впервые изображение предстает не таким, каким его видит глаз или регистрирует объектив, а таким, каким оно было бы, если бы у объектива была собственная жизнь, мозг. Отсюда — эта феерия, эти превращения, постоянные открытия. Таким открытием является фильм «По поводу Ниццы» — высказывался основатель французской синематики Анри Ланглуа.
Первый фильм Жана Виго обозначает диалектику кинематографического документа, вскрывающего парадоксы на берегах французского курорта, облюбованном аристократией ещё в 19-ом веке.
С первых пролетных кадров сохраняется ощущение вертовского влияния, однако по прошествии некоторого времени это ощущение неожиданно опровергается самим экраном.
Вертов — сторонний созерцатель с установкой монтажного творца. Мир, оживляемый «человеком с киноаппаратом», это так или иначе мир, существующий с ним наравне — или под ним — и являющий себя позже съемок, на монтажном столе. Виговская Ницца — дело совсем иное.
«Метод работы заключался в том, чтобы фиксировать факты, действия, повадки, выражения лиц и прекращать съемку в тот момент, когда человек осознавал, что его снимают. Документальная точка зрения» — вспоминает Борис Кауфман.
Если в случае с Вертовым действительность находилась по отношению к снимающему в состоянии онтологического дуализма, — то наравне с ним, то подчиняясь ему — то в случае с «Ниццей» действительность одолевала и подчиняла камеру без борьбы. Ошибочно думать, что влияние Вертова на Виго привела последнего к слепому следованию за советским режиссером, к бесконечному копированию способа репрезентации. В этом и многих других смыслах Жан Виго оставался антиконформистом и всегда выискивал собственные решения, изменяя также и то навеянное, что оседало в его сознании. Это и подкупило оператора Бориса Кауфмана. Подтверждением служит активное движение камеры внутри монтажных кусков. Демонстрация архитектуры Ниццы, насыщенной атмосферой этого места, подчиняется фиксируемому факту, умея наиболее полно выразить энергию города. Энергию, к слову, полную противоречий.
О социальной установке становится понятно с первых монтажных сопоставлений: «международные лентяи», как называл отдыхающих на солнце богачей, сопоставляются с полутемными улочками дворов, где хромые, босые и убогие о
Съемки пришлись на момент подготовки к карнавалу, благодаря чему на фоне кукол, мелкающих на экране, удалось усилить значение искусственности буржуазного мира. А встречаемые кадры кладбищенских мраморных статуй вступают в контрапункт с живыми людьми на набережной. Симфония большого города, в котором социальный аспект оказывается только фактом из множества других таких же фактов — как у Вертова — в случае с Виго претерпевает последовательную трансгрессию под воздействием установки социального обозрения. «Всё это может показаться сегодня наивным, но мы были искренни, намеренно отказываясь от всего, что было красочным…» — позже напишет Кауфман.
Иными словами, Виго оказывается куда более социологичным, нежели «Человек с киноаппаратом» Вертова. И куда менее политически ориентированным, нежели вертовский «Кино-глаз».
Социальный аспект взят Виго метафизически, сам по себе — как самоценный компонент реальности, в котором эта самая реальность исчерпывается. Без выводов и призывов — как есть. Вероятно, именно об этих «обостренных чувствах» Жана Виго писал Базен. И именно поэтому режиссера можно определить в качестве предшественника реалистических тенденций будущего кино.
Насколько справедливо, что Виго отличен от Вертова, настолько же справедливо и то, что первый — как это не парадоксально — достойный ученик второго.
В «Кино-глазе» Вертов учил зрителя плавать. В учебном «Тарисе, короле воды» (1931), следующим за «Ниццей», Жан Виго подтверждает, что научился плаванию достаточно.
И поскольку научился, имеет право плыть дальше своим путем.

В «Тарисе» впервые прослеживается тенденция «магического реализма» Виго. Пловец, заканчивающий свой учебный монолог, следует по воде в одежде: двойная экспозиция вскрывает в реальном факте ирреальное значение.
«Фактологический», если так можно выразиться, режиссерский подход, несмотря на ощупывание такового в «Ницце», оформляется тогда же — в «Тарисе».
Фрагменты тела плывущего человека, рапидная съемка, позволяющая ощутить время — все это в должной мере раскрывается в «Тарисе»; и имеет стремление не столько обосновать априорный тезис фрагмента, сколько позволить ощутить существо происходящего.
Это стремление к существу дела, к полноценной — т.е. ничем не ограниченной — истине позже станет ключевым, я бы даже сказал, формообразующим моментом в творчестве Жана Виго. Моментом, неизбежно утягивающим режиссера в творчество ирреального, фантасмагорического порядка — ибо и истина, кажется, недостижимая в пределах рационального, покоиться где-то глубже, на уровне иррационального обозрения.

Первый игровой фильм «Ноль за поведение» (1933) — результат такого обращения к запредельному.
Отказ от социальной ограниченности в «Ницце», осмысленный в переходной работе «Тарис», оборачивается полноценным художественным подходом, который искусствовед Игорь Беленький в своей книге «История кино» отмечает термином «авторский».
Абсолютность, к которой теперь обращён Жан Виго, символично начинается с апологии юношества, которая реалистически передает видение мира подростка: совсем анти-реалистическое, сказочное, магическое. Дети, курящие исполинские сигареты в вагоне поезда для некурящих; рисунок ненавистного воспитателя-диктатора (Дю Веррон), неожиданно преображающийся в портрет Наполеона; стоящий на руках «добрый» и пародирующий Чаплина учитель Хуге (Жан Дасте́); куклы, засседающие на выступлении; карликовый директор и т.д. Ирреальных образов великое множество.
Виго достигает абсолюта подростковой души, наивысшего реализма духовной глубины — и в этом реалистическом напряжении присовокупляет приставку «сюр».
В этой связи интересно упомянуть слова Зигфрида Кракауэра, рассматривающего первые кадры фильма:
«Перегородка купе располагается в кадре немного наискось, и угол этот указывает на то, что эпизод в целом невозможно уместить в реальном пространстве и времени».
То же относится и ко всей картине. Сюрреальные искания отражают отнюдь не внешний реализм, но внутренний, можно сказать, подлинную реальность бессознательного в подростке. Поэтому ошибкой было бы сводить все происходящее к политической и социальной сатире, для чего, конечно, есть все специально расставленные автором ловушки.
Виго интересует отнюдь не это.
Режиссер последовательно и как бы изнутри конструирует существо, истину подростка, стремление к бунту, к борьбе, к оппозиции диктату; все то, что присуще максималистичному юноше, для которого бунт суть имманентное состояние. Имманентное, но лишь частью. И политическое здесь в
Нам ли, зрителям двадцать первого года двадцать первого века не знать, насколько справедлив такой подход. Сегодня всякое природное бунтарство подростка необходимо сублимируется в политических идеологиях — и это, конечно, очередной аргумент в пользу вечной ценности Жана Виго. Анархические лозунги, план по свержению «учительского режима» — это максилизм подростающего поколения, готового к борьбе со всем старым. Максимализм, осмысленный с любовью — как только и может творить подлинный художник-реалист.
Несколько отступая от сути моих размышлений, хотелось бы сказать об образе учителя Хуге и его связи с мифом Чаплина.
Чаплин, как известно, действительно был понятен публике. И в том числе потому, что, как считают некоторые исследователи, в его творчестве прослеживается обращение к архетипам, закладывающимся в самом детстве. Именно поэтому героя Дасте так любят дети: он такой же, как и они. Или хотя бы просто их понимает.
Но вернемся к главному. Апология юношества, в котором в зачаточной форме формируется абсолютная первородная истина жизни, сама жизнь — только шаг, сделанный на пути к её достижению.

«Аталанта» (1934) — шаг следующий, не конечный, но завершающий для Жана Виго. Для истины и жизни кинематографа — ключевой.
Именно в этом фильме достигается абсолютное единство средств кинематографического выражения, абсолютное и… недостижимое.
Российский критик Сергей Добротворский так расписал судьбу виговского фильма:
«…история «Аталанты» похожа на детектив. Её неоднократно восстанавливали, переклеивали, снабжали все новыми эпизодами. Поскольку сам Виго успел оставить только общие указания по монтажу, его канонического варианта как будто и не существует».
Истина, которую пытался обнаружить Жан Виго, оказалась недостижимой; её абсолют неохватен и фильм, который к этому самому абсолюту приблизился, буквально лишен своей окончательности. Действительность ответила цинично поэтически на искания поэта.
«Аталанта» в том варианте, который сегодня доступен, определяется большинством исследователей, и в том числе Кракауэром как шедевр, определивший развитие новых волн и нового кино вообще. Действительно, антиконформизм Жана Виго пробивается в этом фильма отчётливее, нежели в других.
Мелодрамическая история единения и разлуки, страстей Жана (Жан Дасте́) и Джульетты (Дита Парло) проста как три копейки. Да и вовсе не она здесь важна.
«Фактологический» подход, о котором шла речь выше, в этом фильме обнаруживает неожиданную энергию. Кракауэр пишет:
«Акцент делается на многочисленных маленьких эпизодах, в каждом из которых куда больше саспенса, чем в этой заурядной истории вообще. Эти маленькие эпизоды складываются в сюжет, сохраняя при этом независимые от него структуру и смысл».
Это именно тот подход, который избрал Жан Виго в поисках истины, подлинной жизни человека. Монтажный ряд при всей своей повествовательности на деле оказывается разделенным на самобытные эпизоды, самостоятельные и полноценные куски, переходы между которыми незаметны лишь потому, что их полноценность однонаправлена.
Каждый фрагмент раскрывает всю полноту человеческих переживаний, а поэтические искания, выраженные в монтажных ухищрениях, усиливают ощущение ирреальной области, в которых ведутся поиски виговской истины.
«Аталанта» — подлинный образ; образ в том значении, которое предавал ему Тарковский.
Мелодрамическая фактура, которую возможно однозначно декодировать, жанровый диктат оказывается простой видимостью, снимающейся сразу, как только зритель начинает осмысливать каждый отдельный эпизод.
«В самих драматургических методах Виго обнаруживается довольно оригинальное отношение к экрану. Его сюжеты — не классические герметичные конструкции, призванные создавать саспенс сами по себе; они скромны, свободно организованы и вовсе не имеют четкой цели» — позже напишет Зигфрид Кракауэр.
Мелодрама как жанровая схема опрокидывается неоднозначностью героев, контрапунктом усиливающейся за счет вполне однозначного и реалистически прозрачного Папаши Жюля (Мишель Симон). Настолько прозрачного, что вся его душа укладывается во внешних явлениях: искренность пластических порывов, любовь к экзотическим и не очень предметам; по-человечески чуткая доброжелательность.
Джульетта находится в смятении, что решается пластически за счет встречного движения героини и корабля. Жан обнаруживает невозможность отпустить провинившуюся жену и оказывается подавленным замкнутостью собственного судна.
Некоторые критики находили последствия «Аталанты» у других режиссеров, и в том числе у Феллини. Но мне лично показалось приемлемым сравнение с Бергманом.
Как и в первом фильме шведского модерниста — «Кризис» — в виговской «Аталанте» явно противопоставление города и провинции. Причем нарративные и пластические решения кадра почти однозначны. Джек, герой фильма Бергмана, сравнивает жизнь с театром и куклами. Джульетта из «Аталанты», обманутая представлением местного шута, бежит с судна своего жениха в город и оказывается в череде холодящих душу проблем. И везде один символ искуственности — куклы.
Ирреальное в «Аталанте» получает своё конечное оформление и становится двигателем киноповествования, своеобразным роком, который мог бы быть оправдан жанровой конструкцией, если бы не выше определенные причины.
Рок, судьба — совсем ирреальные, запредельные величины — оказываются «фильмообразующими» компонентами. Неизбежными, если учесть идейную установку Жана Виго.
Джульетта увидела в воде Жана; после расставания Жан прыгает в воду и ищет видение своей любимой, которое всё-таки находит. Наконец, и Папаша Жюль не чурается гаданий. Пластика кадра, решенная через экспрессионизм в смысле субъективного восприятия человеком действительности, составляет не столько мысленный образ, сколько картину чувств, необходимую атмосферу ирреального в случае поиска жизненной истины. Это вообще отличительная черта всех фильмов Жана Виго, который, возможно, сам того не осознавая выступает последователем Луи Деллюка и его «Фотогении кино».
С этой точки зрения уже не кажутся такими вызывающими игры света и тени, экстравагантные ракурсы, нацеленные на запечатление подлинного существа предмета.
В самом начале данной публикации мы упоминали слова Анри Ланглуа, которые в случае с фотогенией видятся несколько яснее.
Уже упомянутый Сергей Добротворский в своей статье «Аталанта бросила якорь на российском канале» указывал на связь Жана Виго и Деллюка.
Нам же лишь остается развить эту мысль.
Луи Деллюк писал, что «красота… выявляется фотографией, а не создаётся заново». Тайна фотогении, иными словами, заключается в «максимальном проникновении в предмет», а отнюдь не в его перестройке.
Жан Виго ищет истину и вскрывает её такой, какая она есть — не меняя существо исследуемого режиссером предмета. И потому ирреальное, к которому в результате приходит Виго, на экране предстает не только вполне реалистично, но и последовательно, естественно: образы не вызывают отторжения, а принимаются за чистую монету, будто иначе просто невозможно. Это и делает французского режиссера, предвосхитившего будущее экранного искусства, подлинным поэтом и одновременно подлинным реалистом от мира кино.
______________________
Жан Виго, умерший в 29 лет, продолжает жить, пока живет истина, которую он так кропотливо искал.
