Саломея Фёгелин. Литература как скромная соучастница
Перевод Алисы Ройдман
Фрагмент статьи "Письмо sonic fictions: литература как портал в возможность художественного исследования" Саломеи Фёгелин (доцент звуковых искусств, PhD), полностью опубликованной в альманахе-огне. Фёгелин рассуждает о возможности художественного исследования, путь к которому прокладывает для себя само искусство при помощи немыслимых процессов его чувственной материальности. Литература при этом не высказывается от лица искусства, а предлагает свои средства, чтобы стать его «скромной соучастницей».
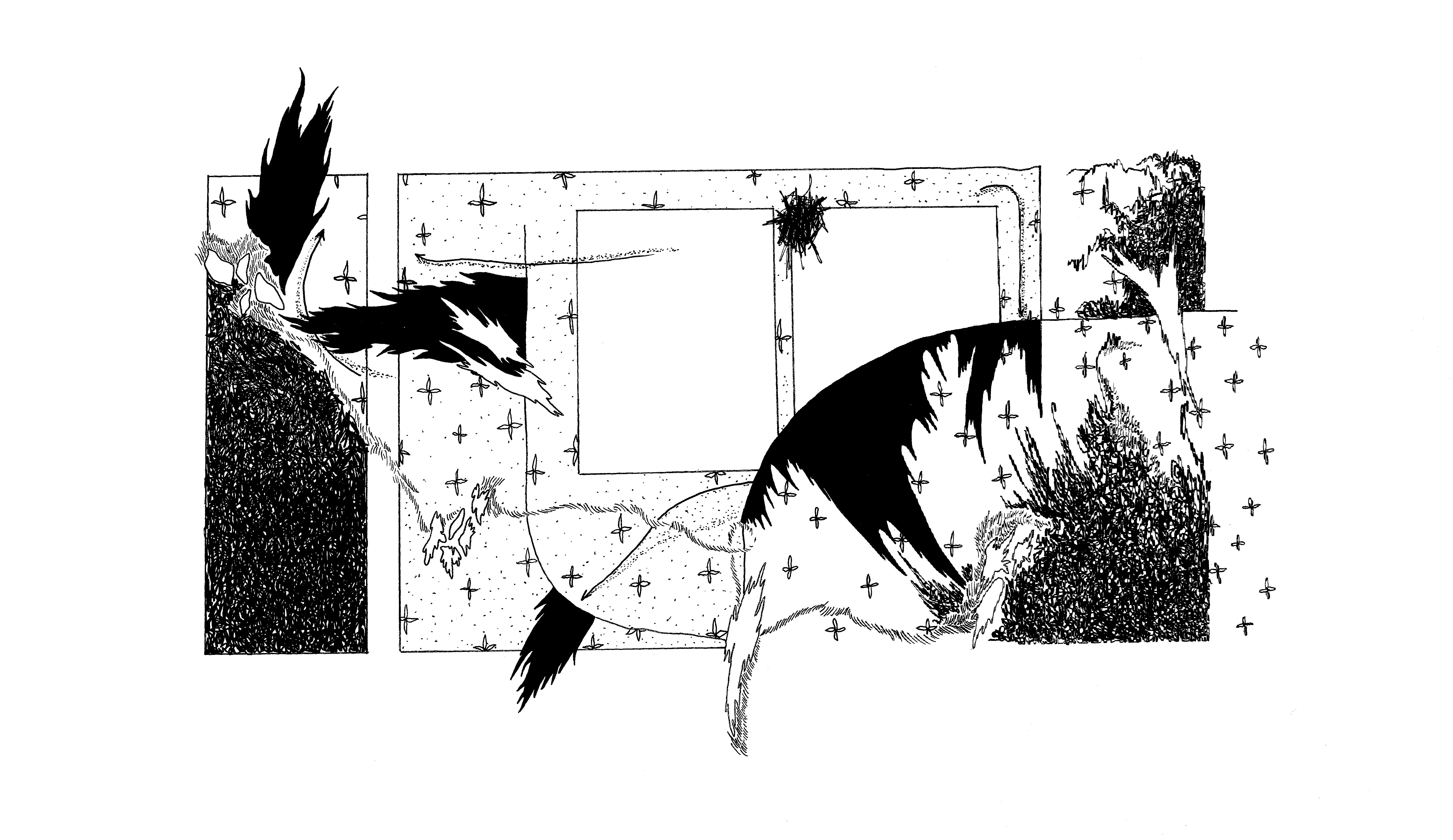
Литература как скромная соучастница
В конце своего эссе «Производство знания в художественном исследовании» (The Production of Knowledge in Artistic Research) Хэнк Боркдорф задается вопросом «приемлемости» документации в отношении художественного исследования, чтобы справедливо с ним обойтись и достоверно сообщить о его открытиях. Хотя Бордкорф допускает возможность того, что результаты того познания будут оформлены невербально, он все еще признает язык в качестве важного инструмента в процедуре суждения. Но вместо того, чтобы отводить ему роль интерпретирующего голоса, он называет его дополнительным медиумом, «помогающим донести до других то, что составляет предмет исследования — при условии, что мы помним о пропасти, всегда пролегающей между явленным и заключенным в слова» [1]. Он не стремится преодолеть эту пропасть подобно Уорден, но хочет, чтобы она была признана как условие артикуляции именно художественного знания. Таким образом, язык не принуждает искусство к речи, но дополняет его выражение, и, согласно предположению Бордорфа, «здесь не обойтись без определенной доли скромности, учитывая перформативную силу материальных объектов искусства» [2].
Как таковая, «скромная соучастница» литература (вместе с поэтикой) способна обойти абстрактность механизмов чревовещающей интерпретации. Они могут это сделать, отправив язык на скамью подсудимых: задействовав в своем письме означающие, которые продолжают означивание, но никогда не «значат» по-настоящему [3]. Кроме того, они могут позаимствовать у устной традиции силу перформатива (акторность речи — прим. ред.), чтобы структурировать иное воображаемое: изъять перформативное из конвенциональных идентичностей и властной установки голоса [4] и «стереть синтаксис, разорвать эту незабвенную нить», артикулируя избыток языка, то, что остается несказанным [5].
Этот языковой избыток, это аграмматичное письмо и эта не-перформативность языкового основания — не только критика категории вместимости и предвзятости аналитического языка, нормы, из которых он состоит и которые поощряет. Кроме того, это попытка создать новые формы выражения, способные принимать в расчет невидимое и неслышимое и, может быть, даже сформулировать язык, на котором искусство смогло бы само выразить себя в качестве знания. Избыточность письма без синтаксиса, понимаемого как грамматическая и дисциплинарная структура слов и их назначение, отметили также Эрин Маннинг и Брайн Массуми в книге «Мысль в действии» (2014). Во введении книги Маннинг и Массуми называют все, что находится вовне философии, «генеративной средой», которая сама предлагает себе соучастно мыслить акт совершения невозможного [6].
Следовательно, в данном контексте невозможное — это не совсем то, чего не существует или не может существовать, но то, что еще неизвестно нам и что в перспективе наделило бы соучастие генеративными возможностями, не отводя ему интерпретирующей роли. Благодаря пристальному вниманию к работе, движениям и выражениям тела и речи, а не языка, в избыточном обнаруживается положительный и любопытный заряд. Соответственно, языку больше не нужно выполнять роль ненадежного мостика или неизбежного разрыва: он — преднамеренное нарушение равновесия «в хрупком различии между моделями мышления в действии», он нарушает свои пределы, чтобы высказать собственный избыток [7]. Чтобы дать такому избытку определение, Маннинг и Массуми вспоминают о разрыве со значением, имеющем место в подростковой речи: «Типа того. Это, типа, грустно». Эта фраза не стремится к обозначению или определению, но, скорее, к озвучиванию преломленного смысла на границе безмолвия, абсолютного чувствования. «Она маркирует аффективное перенасыщение в речи». Она типа грусти: «переполняет, свое обозначение», она открыта для возможности артикуляции невозможного через сенсориальный смысл [8].
Нечто подобное этой открытости возможному и невозможному в качестве сенсориального смысла речи можно найти у Рут Ронен, исследующей текст через призму теории о возможных мирах. Модальный реализм теории возможных миров позволяет литературоведению отделить текст как средство выражения внешней по отношению к нему истины от истины события или объекта внутри текста. «Истина больше не подразумевает постоянного и абсолютного стандарта, определяющего, какие из возможных миров являются истинными, а какие — ложными, и изгоняющего вымышленные миры из царства истины» [9]. Вместо этого концепт истины заменяется понятием «обоснованной утверждаемости» (warranted assertibility — прим. перев.) в рамках вымышленного мира, подчиняющегося гибким критериям валидации [10]. Таким образом, литературный текст должен создать область вне нормативных идеологий, не ориентирующуюся на ожидания аналитического языка и открытую для представления различных отношений. Также литература способна найти иную систему порождения истины во вселенной текста, покоящейся на избытке языка, незавершенном и немыслимом.
Более того, Ронен утверждает, что переоценка истины оказывает влияние не только на текст: «она не позволяет нам увидеть настоящий мир не как данный, но как составленный из пропозиций, индексированных другим оператором» [11]. Согласно этой интерпретации, литературное располагает не языком объяснения, а языком пропозиций: оно предполагает и создает в избытке существующего знания чистое чувствование (sense of sensation — прим. перев.), выводя на поверхность влияние идеологии на существующие пути знания.
Таким образом, если литературные вымыслы как действительные текстуальные и возможные текстуальные миры, согласно Ронен, де-инструментализируют и
В этом смысле языку литературы доступны разные истины, и он способен генерировать различные среды знания. Используя поэтический регистр художественного вымысла и вымышленный регистр поэзии, он может производить критическое высказывание голосом скромного соучастника, который, помогая «задокументировать» и артикулировать искусство в качестве исследования, мог бы обеспечить искусству выход к его собственным терминам.
Тем не менее, теория возможных миров кажется Ронен интересной и полезной для изучения художественных (fictional — прим. перев.) текстов до тех пор, пока они остаются независимыми от своего философского бэкграунда. «Возможные миры основаны на логике ветвления, определяющей спектр возможностей, которые следуют из действительного положения вещей; вымышленные же миры основаны на логике параллелизма, обеспечивающей их автономность по отношению к реальному миру» [12]. Для Ронен, вселенная текста остается оторванной от действительности. Литературные вымыслы — это параллельные вымыслы: фактически они не воздействуют на реальный мир и не имеют последствий в нем. Поэтому, хотя литература и открывает двери мышления для (не-)возможного, у нее не хватает легитимности для влияния на нашу базу знаний.
Проблема здесь заключается в установлении различий между чистой возможностью вымысла и воспринимаемой действительностью реального. Эта разница представляет разрыв, который не может быть преодолен, но должен быть сломлен: вымысел следует изучать не как пропозицию, а как акт, генерирующий реальное из немыслимых движений и невидимых мыслей. Я полагаю, что подобный «реальный вымысел» можно найти в незримой подвижности звука и совместном прослушивании, которое больше не фокусируется на источнике звука и генерирует саму возможность этого вымысла, исходя из эфемерной природы звука как такового.
Поэтому я обращусь к работе Кодво Эшуна «Ослепительнее Солнца: Приключения в мирах звукового вымысла» (More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction), где ухо «с любовью затаивается внутри одного ремикса, исследует психоакустические вымышленные пространства интерлюдий и первых аккордов, идет на крайние меры, чтобы вытеснить нелогичное, от которого бегут другие науки. Оно благополучно избавляется от знакомых имен… и приоритета истории» [13]. Письмо Эшуна — это прямая попытка (в плане формы и содержания) раскритиковать, ниспровергнуть и расширить письмо о музыке. Эшун высмеивает музыкальную журналистику и отбрасывает её конвенции, предлагая язык, подсказанный звуком, его ритмом, телесной восприимчивостью, слышащей техно-будущее, не следующей траекториям прошлого в настоящем. Это позволяет ему отказаться от таксономий и категорий истории и её языка, вместо этого он создает плотные нарративы из звуков и ритмов, которые привносят беспрецедентные ценности, требуют неологизмов и побуждают к физическому взаимодействию. Звуковые вымыслы Эшуна — это научные вымыслы, созданные для музыкального производства, то есть они имеют лишь косвенное отношение к искусствоведению. Скорее, они убедительно задействуют незримую подвижность звука и его несвязанность с объективным и хронологическим мышлением, чтобы предложить альтернативные пути к знанию, помогающие переосмыслить знание искусства.
Применение в отношении звука теории возможных миров, как и в случае литературы, отделено от её философского бэкграунда. Теория возможных миров не подчиняется логическим конвенциям, а пользуется ими, отрицает их и даже порой ниспровергает их методы благодаря чуткости к подвижному и незримому. Тем не менее, в отличие от литературных вымыслов, звуковым вымыслам необязательно быть оторванными от реального мира. Они таковы, только когда поняты через визуальное: когда их материал расценивается в качестве «тени» визуального источника, а их значение зависит от соответствия и текстового референта. Прислушавшись к невидимому, они, однако, озвучивают в реальном мире его возможности. В качестве чего-то незримого звук не предлагает, но генерирует услышанное, вымышленность которого, таким образом, не параллельна, а эквивалентна: это звуковой объект, который я слышу. В этом смысле звук производит возможный в действительности вымысел, а не возможный параллельный вымышленный мир и звучит он в качестве «создающего миры предиката» генеративной среды, подчиняющейся своей собственной истине, артикулированной в избытке семантики [14]. Хотя такая позиция невозможна без звуковой материальности, звук также функционирует и как концепт, и как форма чувственности и становится проводником, указывающим путь к пониманию незримого и подвижного измерений мира, с каким бы материалом ни работал исследователь искусства.
Как концепт и как способ чувствования эфемерного звук пробуждает и сообщает тот вымысел, который артикулирует реальность неизвестного, немыслимого и незавершенного. Он не маргинализирует эти невидимые возможности в параллельной вселенной текста, но осмысливает как актуальные, открывая портал для доступа к ним. Мы осторожно движемся в этом направлении в письме, не подчиняющемся рациональности аналитического языка, его предрассудкам и ожиданиям, но вовлекающем звук в запись неслышного.
Это язык, озвучивающий смех женского письма, о котором пишет Сиксу в своем тексте 1976 года «Смех Медузы». Это, казалось бы, «неприступный» язык, «который сокрушит границы, классы, и риторику, нормы и коды», доступным он становится только «в акте» чтения. Такое вовлечение в текст подобно обитанию в нем [15], когда чтение включает в себя движение и действие. Этот язык не скрывает, чем он грозит дисциплинарности, которой он бросает вызов самой необходимостью своей непрозрачной неартикулируемости.
Звуковые вымыслы не предлагают протянуть мост между реальным и возможным, но делают явной возможность действительности, выстраивая реальность в случайную и шаткую конструкцию её бесформенной формы. Следовательно, художественное исследование как звуковой вымысел — это вымысел генеративный, а не референциальный. Он формируется под воздействием собственной материальности, не в качестве описания объекта или референции к нему как к источнику, но в качестве незримой формы самого процесса. Мы обитаем в этой эфемерной материальности интерсубъективно, отвечая взаимностью на её деятельность сенсорно-моторным актом «вслушивающегося чтения», устроенного как движение в направлении текста. Таким образом, мы получаем доступ к незримому процессу работы и обнаруживаем артикуляцию, вложенную не в существительные, а в предикат, в исследование как действие и его подвижность.
[1] Borgdorff (2012), Production of Knowledge, p. 58.
[2] Ibid.
[3] Kristeva (1984), Revolution in Poetic Language, p. 104 outlines a signifying practice of the “text”, where “the commotion the practice creates spares nothing: it destroys all constancy to produce another then destroys that one as well”.
[4] Cf. Hélène Cixous/Catherine Clément, The Newly Born Woman (1975), translated by Betsy Wing. London: I.B. Tauris Publishers, 1996, p. 6.
[5] Cixous (1981), Laugh of the Medusa, p. 256.
[6] Erin Manning/Brian Massumi, Thought in the Act: Passages in the Ecology of Experience. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2014, p. 7.
[7] Ibid.
[8] Manning/Massumi (2014), Thought in the Act, p. 34.
[9] Ruth Ronen, Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 41.
[10] Ibid.
[11] Ronen (1994), Possible Worlds, p. 39.
[12] Ronen (1994), Possible Worlds, p. 8.
[13] Kodwo Eshun, More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction. London: QuartBooks, 1998, p. 4.
[14] Marie-Laure Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington, in: Indiana University Press, 1991, p. 22.
[15] Cixous (1981), Laugh of the Medusa, p. 256.
