«Этика заботы» vs. медицина как технология: сценарий деконструкции
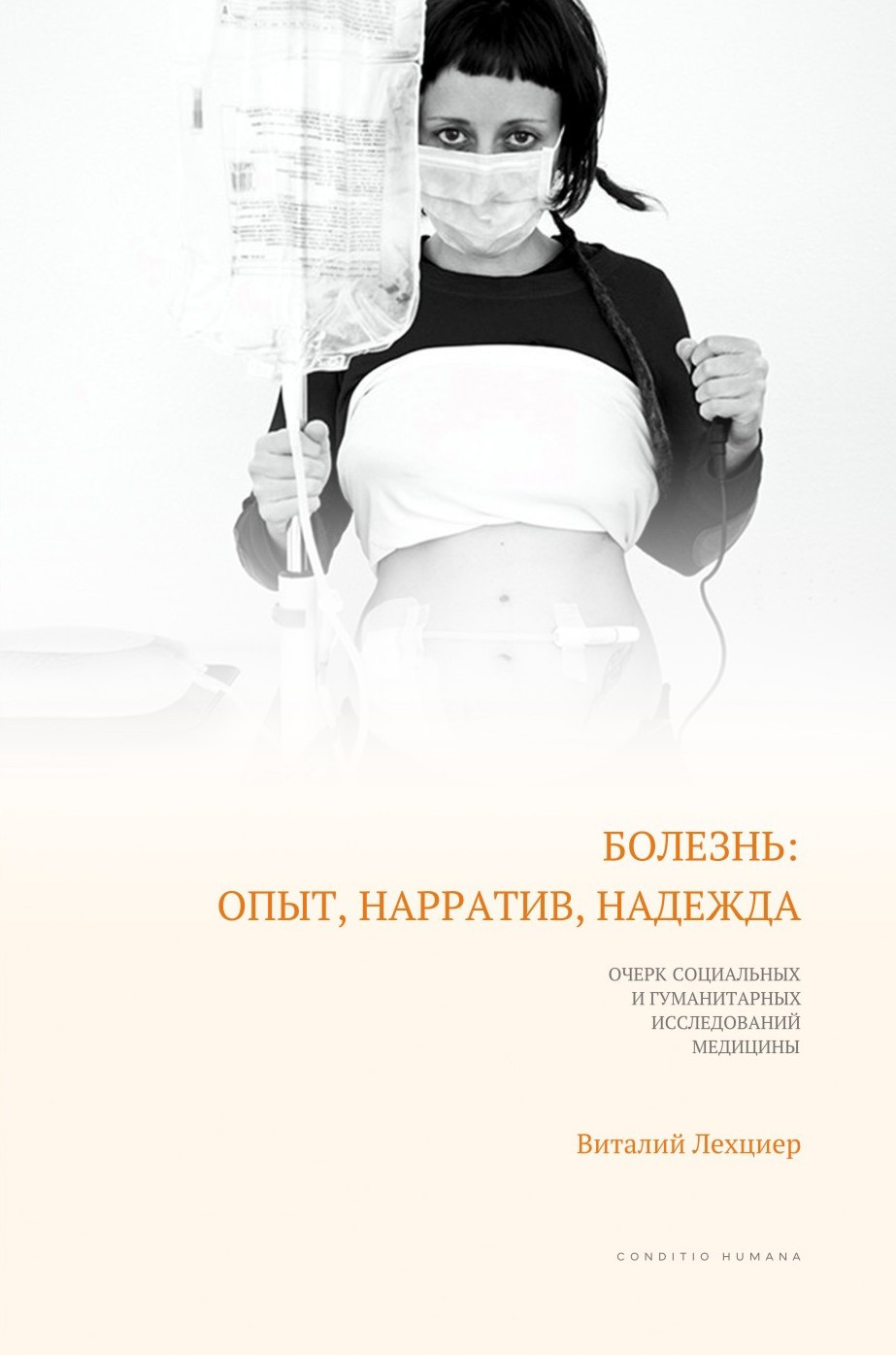
Проект В.Л. Лехциера, представленный в книге «Болезнь: опыт, нарратив, надежда. Очерк социальных и гуманитарных исследований медицины», состоит в том, чтобы теоретически обосновать «значимость голоса пациента», выражающего тот опыт существования в состоянии “illness”, который до сих пор оставался белым пятном как «в границах институциональных миров медицины, так и за их пределами» , — на карте «новоевропейского» «мира» в целом.
Актуальность этой задачи связана с тем, что в новоевропейском «мире» произошла «фундаментальная» трансформация повседневности, связанная с процессом «медикализации» жизни, когда человек «начинает смотреть на себя как на пациента, а человеческое тело от рождения и до смерти становится объектом пристального медицинского контроля и регулирования». Теперь «роль больного» исполняется на протяжении всей жизни, благодаря чему формируется особый — астеничный по своей сути — тип человека, нуждающегося в постоянной медицинской заботе и опеке, тотально зависящего от медицинского знания. Иными словами, медицина становится своего рода «антропотехникой» (П. Слотердайк) .
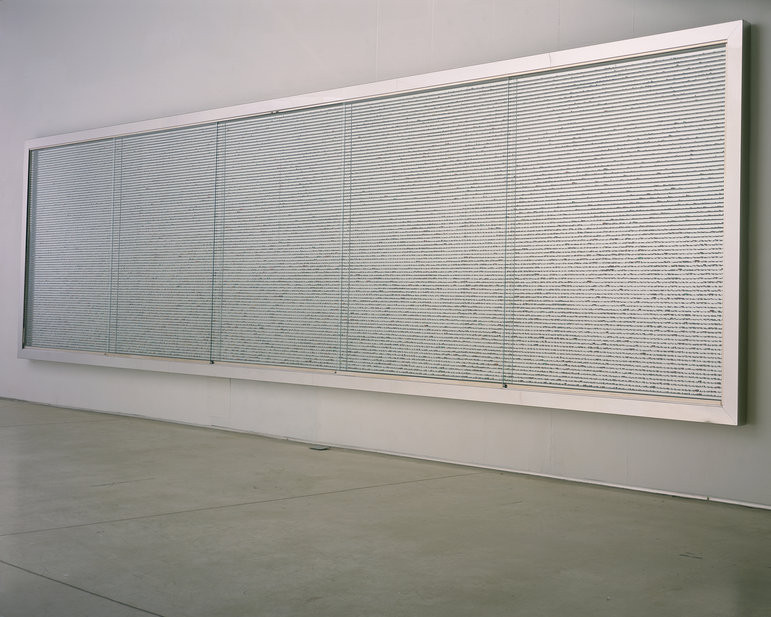

При этом «индустриализация врачебного дела» способствует объективации болезни и обезличиванию медицины и со стороны пациента, и со стороны врача. Подобно тому, как «культура» приходит на место «искусства», «техника» — на место «науки», «управление» — на место «политики», а «сексуальность» подменяет «любовь» (А. Бадью) , «медицина» как технология вытесняет «врачевание», и «медик» — «врача» соответственно. «Медик» — это «технолог», который представляет собой «фигуру власти над пациентом», тогда как «врач» является «фигурой этики», он «имеет дело… с индивидуальным больным, целостью его опыта и открыт событию его патоса» . С позиции автора книги, объективация болезни и отклонение значимости ее «смыслового измерения» мало того, что не выдерживает критики с этической точки зрения, но неизбежно «оборачивается неэффективностью терапии и необратимой хронизацией патологического процесса».
Необходимо признать, что болезнь, а тем более болезнь хроническая, участвует в учреждении совершенно особого «мира», отличного от того, в котором живут обычной жизнью «здоровые» люди, — «мира» с особой логикой, онтологией (топологией и темпоральностью) и этосом. Образ больного как
В своем рассказе о болезни пациент создает миф, альтернативный мифу врачей, причем относиться к этому мифу следует не как к вымыслу, который необходимо развенчать (в русле традиции понимания мифа, берущей начало в эпохе Просвещения), а как к неотъемлемой части «жизненного мира», Lebenswelt (традиция, которая берет начало в трудах немецких романтиков), к особым образом структурированной действительности, ядром которой является «личностность» (А.Ф. Лосев). Миф о болезни, ее происхождении влияет на переживание человеком ее симптомов, связанной с ней боли и дает возможность символически управлять ими. Миф позволяет больному проложить свой — уникальный — маршрут через хаос переживаний illness, интегрировать полученный опыт в свое Я и вернуть его утраченную целостность (однако, с учетом того, что это будет не «возвращением одинакового», а «различием-в-повторении»); как пишет В.Л. Лехциер, «посредством рассказа пациент пытается услышать самого себя и сформировать». Поэтому рассказ пациента о болезни, с одной стороны, и изучение создаваемого им нарратива, экспликация его структурностей и логики, анализ линии сюжета, основных метафор и риторических средств, — с другой, представляются столь значимыми для эффективности лечения.
Осуществляя анализ ныне действующего законодательства, формально возвращающего пациенту статус субъекта, а вместе с ним и «право голоса», В.Л. Лехциер приходит к выводу о его несостоятельности. Дело в том, что регулирование «извне», «сверху» вообще не органично для медицины, которая изначально являлась «практической философией», проникнутой этической рефлексией изнутри: «терапией» как практикой «заботы», «попечения» (от гр. «terapia» — «забота», «служение», «попечение», «лечение»), направленной на восстановление утраченной человеком в результате болезни целостности (отсюда — «целительство»). Это «начало», «архэ» медицина должна вспомнить сегодня, его она как свою суть должна нести в себе. И именно это «начинание» античности, по мнению автора обсуждаемой книги, дает импульс к становлению «новой» «этики заботы», необходимость культивирования которой он стремится показать.
Следуя представленной в книге «Болезнь: опыт, нарратив, надежда…» концепции «заботы» о пациенте Ф. Хартманна, роль «хронического больного» затребует роль «хронического врача», который должен осуществлять «неуклонный и терпеливый поиск возможностей помощи, чтобы облегчить бедствия пациента», «годами сопровождать больного», и, более того, пациент в этом случае становится «частью экзистенции врача», так что когда он умирает, врач «замечает и чувствует, насколько сильно этот хронический больной стал частью его собственной идентичности». По сути, речь идет об учреждении ассиметричных отношений, которые предполагают само-отверженное служение врача пациенту, и такое состояние трагично и опасно для целостности «Я» врача. Рита Шэрон в рамках одной из версий «новой» медицинской этики — «нарративной медицины» — выражает требование установления ассиметричных отношений между врачом и пациентом еще более конкретно, утверждая, что «слушающий [пациента врач. — Ю.В.] должен слушать в качестве инструмента говорящего», то есть, иными словами, занять объектную по отношению к пациенту позицию.
Мне представляется, что этот сценарий взаимодействия врача с пациентом по своей внутренней логике и структурности идентичен сценарию взаимодействия «гостя» с «хозяином» в рамках модели «абсолютного гостеприимства» Ж. Деррида : «гость становится хозяином хозяина», «освобождая» его от его «места», власти, самости и субъектности, обращая его в «объект», «пред-мет», «Gegen-stand» («противо-стоящее»). Думаю, допустимость сопоставления этих феноменов — врачевания и гостеприимства — может быть в
В целом актуальность темы, которой посвящена работа В.Л. Лехциера «Болезнь: опыт, нарратив, надежда…», как и ее обоснование автором, не вызывает ни малейшего сомнения: в связи с той мерой доступа медицины в экзистенциальное поле практически каждого, которую она получила в результате «медикализации» и в связи с переходом к «обществу ремиссии», проблемы артикуляции и тематизации опыта существования человека в состоянии “illness”, трансформации на основании соразмерности человеку практик взаимодействия между врачом и пациентом, как и всей системы здравоохранения, включая медицинское знание, встают как никогда остро. Книга В.Л. Лехциера, привлекая внимание к этим назревшим проблемам, действительно, как и заявляет автор, «предлагает задуматься» над ними, вызывает определенный резонанс и провоцирует на размышление, чему немало способствует и фрагментированный, превращающий текст в «плацдарм» для «чужих» «голосов» стиль изложения материала. Однако сомнения вызывает предлагаемый проект преобразования отношений «врач-пациент». Мне представляется, что задачей будущего является промысливание такого сценария взаимодействия между врачом и пациентом, который, с одной стороны, предполагал бы встречу различающихся экзистенций, со-настроенность и общение, основанное, несколько перефразируя Аристотеля, на особом «чувстве бытия» «другого», но, с другой, настаивал бы на принципе имманентности, в соответствии с которым все «стоит в определенном месте», «все на своих местах», что позволит врачу, сохранив свое «Я», свою аутентичность, распознать пациента как «другого-иного», принять в его «инаковости» с его мыслями и его «болью», и помочь пройти через болезнь и боль, заново обретая именно самого себя.
