ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗРЕНИЯ
Редакция «К!» и друзья
(Лена Голуб, Ольга Давыдова, Ира Ломакина, Никита Лопатин, Полина Трубицына, Даша Чернова)
Опубликовано в шестом выпуске самиздата о кино «К!» (с. 82—99)
Хоть зорок ты, а бед своих не видишь — Где обитаешь ты и с кем живешь.
«Царь Эдип», Софокл
Мы поразмышляли, как кино, самый визуально-ориентированный медиум, может противостоять оптикоцентричности — быть слепым и ослеплять. Делимся мыслями о слепых пятнах (в) кино, сокрытости, репрезентации слепоты и ослепления на экране и политическом потенциале неведения.
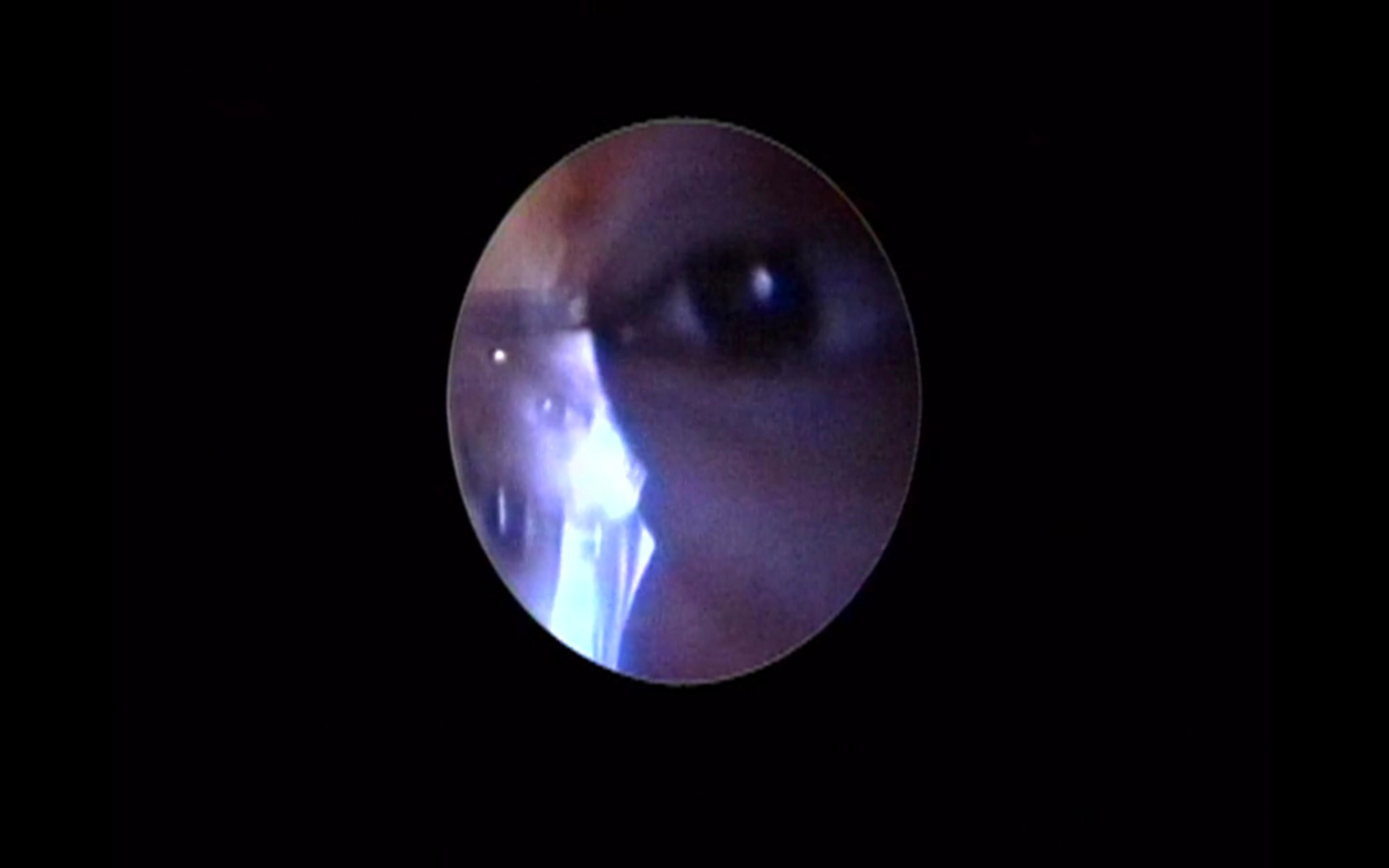
В_ДЕНИЕ
Ира Ломакина:
Чтобы приблизиться к теме слепоты, мне потребовалось время. Я читала тексты, смотрела кино, которые ее касались, но написать что-то было сложно. И вот кто-то из редакции скинул в чат видеоархив, и я решила сохранить какой-нибудь фильм, чтобы не потерять доступ к нему. Я помню, что долго листала вниз, пытаясь найти что-то, что давно искала. И в итоге решила добавить рандомный фильм. Спустя время, когда я уже все забыла, я открыла свои записи и увидела непонятный фильм. Как он попал сюда? Я вспомнила его источник и открыла его. Это оказался Blind White Duration (1968) Малькольма ле Гриса. Классический, я бы сказала, структурный фильм, где на белом экране мелькают черно-белые изображения города (будто у тебя бельмо на глазу). Так фильм об ограничении зрения был выбран вслепую (простите за каламбур). Но именно он стал катализатором для разговора.
Мой интерес к этой теме определяет личный фактор: я ощущаю, как теряю зрение. Оно регулярно падает с подросткового возраста, я ношу очки, постоянно щурюсь. Я привыкла видеть размыто вдалеке. То, что близко, — видится и ощущается хорошо; то, что на расстоянии, — практически меня не касается. Поле моего зрения — буквально ограниченная территория. Зрение сильно связано с ощущениями и отношением к окружающему миру. И эта очевидная способность рождает множество смыслов и метафор. В последнее время я часто думаю об осознанном ограничении видения в пространстве медиа [1] — ведь смотреть сейчас правда очень сложно. Причин для этого много, и вот только некоторые из них: притупленная чувственность, нежелание смотреть, страх увидеть что-то тревожащее и ужасающее. В медиа тема слепоты приобретает политический характер (этот тезис я хотела бы пока подвесить). Проблема видения — это проблема видения досягаемого. Экран становится и проводником в мир образов, и защитным стеклом от него. Я могу посмотреть в своем смартфоне, как тонут дома, взрываются беспилотники, людям пробивают головы кувалдой, или же нажать на кнопку и погасить экран. Избирательно ограничить зрение, избирательно ослепнуть. Перестать воспринимать, чувствовать.
I can’t see, I can’t see, I’m going blind… [2]
Интересно, что мотив слепоты — один из самых глубоко укорененных в культуре и искусстве. Царь Эдип ослепил себя, когда узнал страшную правду, и тем самым отказался от своей власти (в том числе власти видеть). Взаимосвязь зрения и чувства мне интуитивно понятна, но интересно порассуждать и о том, как именно связано зрение и знание.
Лена Голуб:
История Эдипа — прекрасная иллюстрация драмы зрения (как способности видеть) и знания. Его ослепление парадоксально потому, что связано с прозрением. Эдип не видит, не ведает что творит. В русском языке глагол «ведать» имеет удивительную этимологию. Основу глагола составляет древний корень, от которого также образован глагол «видеть», «вид», «идея». Можно найти сходства с другими языками славянской группы: відати (ведать, знать — украинский) или védeti (знать — чешский). Во многих других языках, в том числе в древнегреческом, эта двойственность сохраняется. В ведийском санскрите [vidā́] — «знание»; в греческом глагол οἶδα [oida] — «я знаю», от него же произошел εἰδώς [eidṓs] — «вид», «идея», «облик» [3].
Древнегреческий принцип познания можно назвать умозрительным. Слово θεωρία [theōría] означало «созерцание», почти «глядение». Сергей Аверинцев в тонком размышлении «К истолкованию символики мифа об Эдипе» [4] пишет: «Греческий язык и греческая мысль особенно интимно и проникновенно связывали знание — с глазами, “умозрение” — с телесным зрением; достаточно вспомнить, что наши “теория” и “идея” получились из греческих “смотрения” и “облика”, и что вся платоновская “метафизика света” немыслима без прочувствования связи между оком и умом» [5]. При этом умозрение, как мне кажется, можно было бы назвать невидимым зрением и видением незримого. Так, например, Платон аллегорически определяет философа через фигуру мудреца, который в стремлении познать истину смотрит на солнце, ослепляя себя его светом. Этим философ спасает себя от того, чтобы быть одурманенным кажимостью вещей, — слепые пятна всегда сопровождают истину. В греческой культуре, согласно Аверинцеву, рано выявляется острое переживание видимости как пустой «кажимости». Известные герои греческих мифов — вещие Тиресий, Гомер и Демодок — были слепцами. А Демокрит выжег себе глаза, чтобы яснее видеть невидимое [6].
Эдип Пьера Паоло Пазолини («Царь Эдип», 1967), стоя ближе всего к истоку вещей — в младенчестве (начало фильма) и зрелости (уже ослепив себя; конец фильма), — смотрит на небо: камера рассекает его в импрессионистской манере и в итоге падает на землю.
Глубокая метафора ослепления Эдипа располагает к самым разным интерпретациям как мифа в целом, так и жеста Эдипа в частности. И они не обязательно друг другу противоречат, скорее дополняют. Связь знания и видения можно расширить до триады — знание-видение-власть.
Знание Эдипа — это также знание-сила и знание-власть, как уже заметила Ира. Власть (правление в Фивах), обладание (богатствами и женой-матерью Иокастой) делает его зрячим слепцом. Умный Эдип разгадывает загадку Сфинги, и тем самым закрепляет власть в Фивах. Но он не в состоянии разгадать загадку своей судьбы.
Даша Чернова:
Я понимаю Иру и тоже чувствую беспомощность собственных глаз и страх, что они могут меня подвести. Какое-то время назад у меня сломались очки, и я добиралась до оптики зимним вечером, опасаясь, что могу попасть под машину… Иногда я пытаюсь представить, как буду (буду ли?) смотреть кино в старости, когда, вероятнее всего, почти перестану видеть.
Слепота и ослепление — это очень интимная тема, потому что она предполагает крайнюю степень уязвимости. Эта уязвимость, на мой взгляд, сильно связана с невозможностью знать. Все, что остается человеку без зрения, — чувствовать. Существует какая-то убежденность, что знание — это сила. Чем больше ты знаешь, тем больше у тебя власти, возможностей. Соответственно, незрячий человек слаб, несамостоятелен, зависим от других. Сразу оговорюсь, что я так не считаю, а лишь пытаюсь проследить цепочку мыслей, которая на самом деле обманчива. Несколько раз я предлагала незрячим людям на улице и в транспорте помощь и каждый раз осознавала, что они гораздо лучше меня понимают, куда идти, за какой угол надо свернуть и как не споткнуться о неровную плитку под ногами.
Наверное, уверенность в слабости и зависимости незрячих людей — продукт позитивистского мира, где балом правят факты и «правды». Людям навязывают необходимость доверять не собственным чувствам, а только объективным знаниям, которые можно доказать. Всякий раз, когда кому-то что-то кажется, когда знание заменяется предчувствием, интуицией, — это выглядит как что-то несерьезное, не заслуживающее внимания. А вопрос доверия в контексте слепоты занимает для меня центральное место. Чтобы жить, незрячий человек вынужден доверять своим ощущениям и другим людям. Иногда одно оказывается в конфликте с другим. Так в фильме «Кулаки в кармане» (1965) герой, охваченный навязчивой идеей освободить свою семью от проблем, привозит незрячую маму к обрыву у горной дороги и предлагает ей погулять, подышать воздухом. Мама не может не чувствовать, что происходит что-то странное, не может не ощущать слишком сильный ветер, укатывающиеся в пропасть камушки из-под ног, но она доверяет сыну, ведь он-то точно знает, где обрыв. Да, он знает и именно к нему уверенно ее ведет.
Just ’cause you feel it doesn’t mean it’s there [7]
Невозможность в полной мере доверять людям формируется в многолетнюю рану, фактически травму, с которой живет герой австралийского фильма «Доказательство» (1991). Мартин не видит с рождения, и почему-то в детстве у него появляется уверенность, что мать врет ему об окружающем мире. И она делает это просто потому, что может — то есть чтобы доказать свою безграничную власть над ним. Взрослый Мартин справляется с этой болью с помощью фотографии. Он носит с собой камеру, делает снимки и печатает их, чтобы у него было доказательство того, как на самом деле выглядит мир. Но увидеть снимки он не может. Он находит друга, официанта-посудомойщика в местном кафе, который описывает ему фотографии. Почему Мартин верит ему, остается не совсем ясным, но вся их дружба строится на встречах, где они вместе рассматривают эти изображения. Знаменательно, что Мартину важно иметь материальное доказательство, предмет, содержащий настоящий мир. Он владеет этими фотографиями и таким образом присваивает себе знание, которым фактически не может обладать.
СЛЕПЫЕ ПЯТНА
Лена Голуб:
К вопросу о знании и силе — я вспоминаю Фрэнсиса Бэкона, которому чаще всего и приписывают это изречение. В его утопии «Новая Атлантида» (1627) есть очень волнующий и пугающий мотив, который, на мой взгляд, тесно связан с темой ослепления. Текст повествует об идеальном обществе, которым управляет орден ученых «Дом Соломона». Бэкон неоднократно называет это сообщество ученых «глазом» королевства, и именно им принадлежит в мире власть — сила, которая и есть знание. Они же самостоятельно решают, что узнают другие. Так жители королевства становятся слепцами, которые не имеют доступа к исследовательским инструментам. Ученые освещают ту правду, которую посчитают нужной. Характер познания становится радикально другим: мудрецы больше не смотрят на свет в стремлении себя ослепить. Они управляют светом, проливают его на «темный» мир…
Ира Ломакина:
Да, идею, что знание — сила, часто можно встретить и в кино: например, в «Чужие среди нас» (1988) [8] Джона Карпентера. Здесь показывается простая мысль: нужно надеть «очки правды», чтобы понять обман капитализма, скрывающийся в рекламных щитах. Начать видеть, получить истинное знание, а без этого — мы слепы, не живы, пришельцы-колонизаторы эксплуатируют нас через телевизор. Вот где настоящий хоррор! Не знаю, что меня смущает больше: такая упрощенная репрезентация идеологического аппарата, где мир буквально предстает черно-белым, или режиссерская риторика, что мы можем овладеть (какой-то) правдой и стать зрячими.


Лена Голуб:
Хочу развернуть связь знания, силы и видения с еще одного ракурса, обратившись к «слепым пятнам» изображений. Слепые пятна — шумы, пиксели и прочие помехи — можно рассматривать как свидетельства медиатехнологического секрета изображений и дискурсивных условий, в которых эти изображения создаются.
В аналоговых способах получения изображений наличие и характер шума обуславливали использовавшиеся для кодирования данных о мире (его световых и теневых участков) кристаллы солей серебра или желатиносеребряная эмульсия. В цифровой фотографии появляется феномен пикселя — единицы светочувствительной цифровой матрицы. Кому эти слепые пятна развязывают руки и кому завязывают глаза? Что скрывают и показывают?
Статья Эяла Вайцмана, архитектора и сооснователя группы Forensic Architecture [9], Violence at the Threshold of Detectability затрагивает вопрос слепых пятен в фотографии и видео. Вайцман приводит описание суда, инициированного Дэвидом Ирвингом, отрицателем Холокоста, в 2000-м году. Ирвинг подал в суд на одного из издателей за то, что последний назвал его «самым опасным фальсификатором истории».
Ирвинг утверждал, что нет ни одного видимого доказательства (возвращаясь к мысли Даши) того, что в здании Крематория II в Освенциме-Биркенау были дыры в крыше. Без этих отверстий газ Zyklone B не мог быть введен в комнату, и, следовательно, она не могла функционировать как газовая камера. А если здание не является газовой камерой, то Освенцим не мог быть лагерем смерти. “No holes — no holocaust [нет дыр — нет Холокоста]”, — постоянно напоминает суду Ирвинг. Доведем эту логику до конца: если Холокоста не было, то Ирвинг не может быть уличен во лжи. Другими словами, изымая важные связующие доказательные элементы, они разрушают сложные эпистемологические объединения сетевых доказательств.
Вайцман называет стратегию защиты Ирвинга «негативным позитивизмом», поскольку последний в качестве доказательств использует их отсутствие. Задолго до этого случая Харун Фароки раскрывает парадокс отсутствующих дыр, этих слепых пятен, в фильме 1988 года «Картины мира и подписи войны».
Возможно ли использовать в качестве доказательства изображение, пределы интерпретации которого совпадают с пределами нашего видения, нашей способности разглядеть вещь?
Один из сюжетов фильма знакомит нас с двумя сотрудниками ЦРУ, занимающимися измерением параметров фотоснимков, сделанных американским пилотами в 1944 году в Польше. На снимке изображено предприятие IG Farben, которое запечатлели для совершения бомбардировки польскими союзниками. В 1977 ЦРУ обнаруживает, что на фото изображено то, что не было идентифицировано прежде: рядом с целью бомбардировщика располагался концентрационный лагерь Освенцим. Фильм Фароки показывает, что несмотря на то, что на изображении было все, что могло бы сообщить о местонахождении лагеря еще в 1944 году, — очереди заключенных, машины с крестами (так нацисты помечали свои транспортные средства), газовые трубы, — никто не обратил на это внимания. Освенцим не был замечен союзниками, так как взгляд был детерминирован мишенью: цель, с которой был сделан снимок, детерминировала взгляд.
Итак, в 1977 году сотрудники ЦРУ обнаруживают четыре точки на крыше здания, которые могли бы являться отверстиями газовых труб. Но крыша здания в момент, когда было сделано фото, находилась в области искажения параллакса объектива. Четыре маленькие точки очень размыты. Полувидимость и едва-различимость точек играет на руку отрицателям Холокоста. Ирвинг предполагает, что негативы были сфальсифицированы и точки нанесены кистью с краской.
Вайцман предлагает ввести понятие threshold of detectability («порог обнаружения») для обозначения ситуации, когда фотографируемый объект сливается с исходными возможностями записи негатива. В этом состоянии материальность представляемого объекта (отверстие трубы) и материальность поверхности, представляющей его (поверхность зерен соли серебра), следует рассматривать и как наличие, и как представление: каждая поверхность должна быть проанализирована и как изображение, и как материальная реальность [10].
Фильм Фароки также знакомит нас с историей изобретения оптических законов построения перспективы. Aufklärung (Enlightenment/Просвещение) — это также разъяснение и разведка. И здесь мы снова сталкиваемся со связкой знание-сила-видимость. Фароки указывает нам на ослепляющую природу света. И это не просто метафора. Чтобы сфотографировать местность с высоты, военные сбрасывали (и сбрасывают до сих пор) на землю фосфорные бомбы. Зрение непрерывно уничтожается и пересобирается на службу милитаризму и капитализму [11].
Здания, поражаемые беспилотниками и ракетами-дронами в современных войнах, имеют характерный архитектурный след — небольшую дыру в потолке. Некоторые из этих устройств смерти, как отмечает Вайцман и его коллеги, оснащены предохранителем задержки. Это значит, что между ударом и детонацией есть несколько секунд задержки: сначала устройство проникает в помещение через крышу и уже внутри разрывается. Этот способ ведения войны считается в извращенном смысле «гуманным», так как его избирают для сокращения потерь. Но, как и многие другие методы «меньшего зла», это приводит к распространению таких невидимых атак и, соответственно, к большему количеству жертв. С высоты птичьего полета дыра в крыше является единственным видимым следом атаки беспилотников. На уровне спутниковой съемки размер отверстия, которое беспилотник проделывает в крыше, меньше, чем размер одного пикселя в разрешении спутниковых изображений.
Пиксельное разрешение является не только техническим продуктом оптики, оно разработано в соответствии с размерами человеческого тела (оно было юридически утверждено, чтобы сохранять конфиденциальность людей при записи Google Street View). Поэтому дыра в крыше — признак удара беспилотника будет сопровождаться не более чем незначительным изменением цвета.
В обоих случаях дыра в крыше свидетельствует о том, что комната под ней была камерой убийства. В обоих случаях эта дыра была слепым пятном и находилась на пороге обнаружения.
Ира Ломакина:
Как-то мы писали коллективную заметку о фильме «Ночи больше не будет» (2020) Элеонор Вебер, и Диана спросила в конце: «Зачем тебе столько глаз, война? Чтобы лучше нас всех видеть?» [12]. Хочется найти ответ, но пока у меня тоже одни вопросы. Теряем ли мы зрение, когда кто-то смотрит за нас? Что видят за нас камеры наблюдения и дроны? Эти глаза видят больше или меньше? Как власть зрения переходит от человека в цепкие лапы технологий, и чем это оборачивается?
Один из последних просмотренных мною (почти до конца) фильмов на эту тему — Home Invasion (2023) Грэма Армфилда. Это полуторачасовое смотрение изнутри: в первой части — из умного дверного глазка (doorbot), который соединен с камерой видеонаблюдения. Конструкция сопряжена со смартфоном — и когда в дверь звонят, можно увидеть (не)желанного гостя, даже находясь за тысячу километров. Мимо проходят курьеры, в кадр-глаз залазят звери, полицейские. Во второй части мы смотрим из того же дверного глазка в мир кино — на экране фильмы, осмысляющие вторжение в дом. Параноидальная тактика наблюдения — в зрачок из коробочки смартфона — усиливается визуальным решением фильма: все время экран очерчен кругом. Текст, сопровождающий фильм, тоже выпуклый по радиусу. За кадром авангардно-скрипучий-хоррор саунд и повторяющийся миллион раз звук дверного звонка, который сводит с ума.
Для меня стало открытием существование такого девайса. В фильме говорится, что с помощью doorbot жильцы могут делиться изображением и геолокацией с соседями в социальных сетях, тем самым усиливая паранойю и подозрительность к определенным лицам (которая практически доходит до дискриминации). Разработанный как бы для целей безопасности, он в итоге делает каждого жильца «невольным информатором». Всевидящий дверной зрачок становится современной формой надзора и паноптического взгляда над всем, что находится за дверью. Зачем нам столько глаз?
Даша Чернова:
Камеры видеонаблюдения действительно фиксируют огромное количество событий и процессов, они видят, знают, помнят гораздо больше нас. Но именно из-за их всемогущества то, что не попало в их поле зрения, не учитывается как существенное и случившееся. Люди больше не доверяют глазам других людей. Свидетельства без фото- и видеоподтверждений ничего не доказывают, воспринимаются как попытка обмана. Люди доверяют только машинам, передают им ответственность следить за порядком, находить преступников (система распознавания лиц как освобождение от наблюдательности). Но машины видят только видимое, то, что на поверхности. Они не увидят причин и последствий, не смогут ничего изменить. Это должны делать люди, которые делегировали свою способность зрения, а вместе с ней отказались от знания, как это ни парадоксально. Передоз видимости через медиа оборачивается отсутствием внимания к увиденному.
Are we undercover?
What’s left to see? [13]
СМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ВИДЕТЬ
Никита Лопатин:
Можно утратить зрение из-за болезни или травмы или родиться незрячим. А можно быть вполне здоровым, но в упор не замечать чего-то или кого-то. Что-то вроде внутреннего ослепления. Классический пример, «Огни большого города» (1929) Чарли Чаплина, касается этих двух вариантов слепоты. В начале фильма Бродяга влюбляется в слепую героиню, а к концу возвращает ей зрение. Но с новыми глазами ей нужно и взглянуть на вещи по-новому — постараться увидеть своего спасителя, настоящего героя в каком-то бродяге.
Эта тема проявляется и в современном кино. Через десятилетия после фильма Чаплина Цай Минлян своеобразно продолжает разговор о невидимых людях-бродягах в фильме «Бродячие псы» (2013). Минлян часто и настойчиво вглядывается в безымянного главного героя и его детей, выживающих на улице. Согласно Минляну, продолжительное всматривание в того, кого обычно не замечаешь, — путь к излечению от внутренней слепоты.
Расширяя тему, можно поговорить о фильмах и режиссерах, для которых в первую очередь важен внутренний взгляд. Рассматривая повседневную жизнь, они тем не менее стремятся к чему-то невидимому, едва ощутимому, чему-то, что всегда ускользает от вооруженного взгляда или репрезентации. То есть мы, смотрящие такие фильмы, способные видеть, все равно частично слепы.
Первым осмысливать и исследовать тему внутреннего взгляда начал Пол Шредер в тексте «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер» [14]. Меня эта тема настолько заинтересовала, что я исследовал ее в своей магистерской диссертации, которую назвал — «Кино невидимого измерения». Наверное, ее можно считать продолжением или спин-оффом работы Шредера. Моя тройка режиссеров состояла из Брюно Дюмона, Цай Минляна и Апичатпонга Вирасетакула. Если обобщить, то мой интерес заключался в том, как показать в кино чудо.
Показанное в кино чудо — это ведь оксюморон. Чаще всего как только мы видим чудо на экране, мы тут же осознаем это как фокус, трюк. И мне кажется, что для фильмов невидимого измерения критически важна тонкая грань между «показать» и «позволить увидеть». Важно не просто «натрудить» глаз, дав ему очередную выполнимую задачу, а обогатить взгляд и пробудить в зрителе какую-то новую сторону зрения. Осуществить это можно разными путями. Например, Дюмон предоставляет место невидимому, наполняя свои фильмы пустотой: нарочито серыми, непримечательными пейзажами, пустым ожиданием, анти-символизмом, анти-саспенсом. Главное — это не провернуть фокус, но чтобы чудо произошло само по себе. У Дюмона самый ясный пример подобного — эпизод с исчезновением лесного пожара из «Вне Сатаны» (2011). Мы напряженно следим за тем, как героиня переходит по маленькому мостику через бассейн. Ее поход продолжителен, и цель его смазывается. А цель — чудесное, мгновенное прекращение пожара. И именно из-за того, что глаза впиваются в экран, и в мыслях не остается места для сверхъестественного, — чудо случается. И происходит это вне кадра, в пространстве невидимого.
Даша Чернова:
Ты говоришь о возможностях кино репрезентировать едва уловимое, видимое только внутреннему взору, и я согласна, что кино способно на это. Невидимое может проявиться и подсветиться, даже если не обретет четких очертаний, предметности, а останется на уровне ощущений. При этом некоторые фильмы убеждают меня в бессилии кинематографа репрезентировать взгляд и чувства незрячего человека. В том же «Доказательстве» есть сцена, показанная субъективной камерой: Мартин держит фотоаппарат у невидящего глаза и направляет объектив в ту сторону, которую хочет снять. Зритель видит элементы видоискателя и понимает, что попадет в будущий снимок. Но это выглядит нелепо: человек, чей взгляд нам пытаются реконструировать, на самом деле не обладает им. Кино не может показать, что именно Мартин видит, когда делает фотографии. Первое, что приходит в голову, — это черный экран, но подобная репрезентация слепоты настолько же далека от правды, как подражание взгляду зрячего человека.
Героиня фильма Вернера Херцога «Земля безмолвия и тьмы» (1979) не видит и не слышит. Она рассказывает, что люди без таких особенностей здоровья чаще всего представляют ее мир как погруженный в полную тишину и черноту. На самом деле она слышит постоянный гул и всегда видит что-то, но это что-то не обладает контурами и цветом. Ведь когда зрячий человек закрывает глаза, он_а тоже не оказывается в мире тьмы. Он_а оказывается в мире мерцающих пятен, разных интенсивностей, яркостей, плотностей.
Американский триллер Ричарда Флейшера «Слепой ужас» [15] (1979) разочаровал меня нечуткостью к своему центральному сюжетному решению. Сара, потерявшая зрение после падения с лошади, приезжает отдохнуть в особняк семьи своего дяди. Пока она гуляет с возлюбленным, в дом проникает маньяк и убивает всех жителей. Героиня какое-то время живет с мертвецами и не знает об этом, а потом сама оказывается в опасности, так как убийца возвращается, чтобы найти оставленный браслет. Фильм использует слепоту Сары как аттракцион, дополнительное острое ощущение для зрителя. Как она убежит от него, если не видит, где он прячется? Как она спрячется, если не может найти укромное место? При этом сам ужас незрячего человека перед подобной опасностью не осмысляется и не репрезентируется. Зритель ни на миллиметр не приближается к той бездне страха, в которую падает героиня. В одной из самых жутких сцен убийца хочет утопить Сару в ванне. В этот момент зритель видит насильника глазами Сары, как если бы она могла видеть: мужчина нависает сверху, тянет руки прямо в объектив и пытается погрузить его под воду. Кино просто не в силах репрезентировать это событие достоверно, оно расписывается в ограниченности своих средств, чтобы показать, как этот момент могла бы воспринимать незрячая Сара. Фильм решает эту сцену самым очевидным, самым распространенным и самым неподходящим в этом случае приемом.


СЛЕПОЙ ХОТЬ ОЩУПЬЮ, ДА БРОДИТ; А ЗРЯ И ЗРЯЧИЙ СПОТЫКАЕТСЯ
Полина Трубицына:
Вход в тему ослепления для меня показался настолько размытым, что путь к письму приходилось искать на ощупь. Я, как и многие, обладаю неидеальным зрением, но не чувствую в этом слабость. Мне нравятся туманные образы, еле различимые лица, в которые нужно всматриваться, чтобы различить или узнать своего знакомого на улице. Для меня это не проблема виденья, а скорее возможность вглядеться, рассмотреть и сфокусироваться на определенном объекте. Так я сама выбираю, во что всмотреться, или не выбираю вовсе. Эти ощущения можно назвать воплощением идей киноглаза киноков. И если кинокамера может мир киноощущать, то и теряющий четкость зрения человек воспринимает реальность иначе. Его сила будто заключается в неведении, и, по личным ощущениям, иногда приятно не видеть/не знать всего, что творится вокруг. Пожалуй, поэтому история Сары из «Слепого ужаса» кажется мне одним из удачных вариантов репрезентации невидения страшного. На мгновение ты действительно веришь, что ее слепота — это суперсила, которая защищает от осознания страшного. Влияет на это и работа камеры, зрители на мгновение не видят, что должны. Будто с задержкой нам показывают интерьер с мертвыми телами. Пожалуй, это маневрирование
героини по знакомым уголкам квартиры, как и должно быть в триллерах, нагнетает больший ужас, а пика он достигает в сцене, скрытой от зрительских глаз.
Если развивать тему потери возможности увидеть страшное рядом, то чувство защищенности от угрозы действительно обнаруживает само себя. Невидение обезопашивает. Набредая на подобные сюжеты в фильмах, мы, конечно, понимаем, что чаще это ложное ощущение, которое рано или поздно даст свои плоды.
Интересный вариант рассмотрения темы ослепления можно обнаружить в ужасах или фэнтези, где есть инопланетные герои или страшные монстры, лишенные способности видеть свою жертву. Прибывая в человеческую повседневность, они исследуют новую территорию, базируясь на иных чувствах. Сама способность видеть чужеродную среду им недоступна, они исследуют ее, полагаясь на обоняние или слух. В жанровом хорроре «Тихое место» (2018) Джона Красинского мы имеем дело как раз с таким вариантом слепого зла. Непонятно, как появившиеся на планете Земля слепые монстры охотятся на семью Ли. Антропоморфные сущности не имеют глаз, а лишь обостренный слух. Обострен он настолько, что ушные раковины защищены раздвижными панцирями, которые способны раскрываться в нужный момент. Само лишение зрения не делает их слабыми, а, пожалуй, заставляет считать еще более опасными. Слепое зло устрашает, оно ужасает. В столкновении с ним зрение — единственное оружие жертвы. Насколько оно помогает?
Ольга Давыдова:
И правда, действительно ли зрение помогает, а не мешает? Может, неспособность видеть вскрывает потенциал какого-то другого действия, существующего вне привычного автоматизма восприятия? Есть ли у невидения политический потенциал?
Даша уже вспомнила фильм Вернера Херцога «Земля безмолвия и тьмы», который описывает возможности взаимодействия с миром без слуха и зрения. Один из концептуальных сюжетов этой работы Херцога — проблематизация языка как инстанции, опосредующей чувственный опыт. Наша речь в значительной степени отталкивается от того, что мы видим и слышим, и возможность установления контакта с реальностью для незрячих и неслышащих людей выстраивается с учетом необходимости овладения языком. Шрифт Брайля, тактильный алфавит, программы экранного доступа для слабовидящих или незрячих людей — все это как будто эрзацы языка, недоступного в опыте, но обязательного для освоения действительности.
Проблематизируя автоматизм привычного нам использования языка, фильм Херцога предлагает мыслить язык иначе, полностью размещая его в поле телесных ощущений. Герои фильма ощупывают кактус, и смысл объекта становится доступным через физиологические ощущения и телесный контакт. Кактус остается невидимым, но становится доступным; поле идей и понятий, расположенных на территории абстракции, становится материально осязаемым.
Здесь сразу вспоминается Морис Мерло-Понти и его попытка говорить о теле как топосе человеческого бытия, главном основании нашего существования. Телесный опыт — форма чувственности, не требующая для себя никакой другой способности, кроме, собственно, бытия живым. Фини Штраубингер, главная героиня «Земли безмолвия и тьмы», не ставит под сомнение возможность собственной активности. Ее способ присутствия в мире — это поступки, действия помощи, тактильный контакт; она ищет и находит возможности взаимодействия как для себя, так и для других. Кажется, речь здесь обретает какое-то иное измерение: «отвязываясь» от недоступных зрительных и аудиальных впечатлений, героиня переходит в мир материальной осязаемости, где слова — возможно ли такое? — теряют свою базовую характеристику: разрыв между означаемым и означающим. Кактус не существует на картинке, не существует как набор палочек и кружков в графическом написании слова, не существует как набор фонем. Его существование в мире и в языке (том, который доступен героям фильма на уровне опыта) — это его гладкость и колючесть, округлость формы, влага под зеленой кожицей. В таком мире все действия как будто извлекаются из-под покрова языка, начиная существовать исключительно в собственной материальности, в эмпирике жизни, где переживание случается и вовсе не обязательно требует языкового опосредования.
Один из моих любимых фрагментов Vita Activa Ханны Арендт — глава «Действие», которая начинается с параграфа «Раскрытие личности в действии (поступке) и слове». Арендт пишет: «Речь и действие суть деятельности, в которых выступает <…> уникальность. Говоря и действуя, люди активно отличают себя друг от друга вместо того чтобы просто быть разными; они модусы, в которых раскрывает себя сама человечность» [16]. Но что если речь, как показывает Херцог, уже дискредитировала себя, если она не может быть реализована вне зависимости от видения и слышания? Телесные стратегии фрау Штраубингер обнаруживают политическое измерение неспособности видеть и слышать. Изъян оборачивается потенцией и указанием на возможность действия вне системы репрезентации — просто действия как такового, обладающего значимостью вне жеста символизации. «Я слепа и глуха, я такая же, как вы», — говорит Фини, обращаясь к незрячим и неслышащим людям, утратившим надежду попасть обратно в мир, который как будто не для них и не может им принадлежать. Возможность со-общения, которую каждым своим поступком манифестирует героиня фильма, локализуется здесь, где я сейчас стою, где есть мое тело и тело другого, где мы можем быть живыми вместе. И для того, чтобы быть, вовсе не обязательно видеть и слышать: достаточно только коснуться. Одна из последних фраз фильма такая: «Если сейчас начнется мировая война, я ведь даже не замечу». А я видела и вижу, слышала и слышу, но что я на самом деле замечаю? Не является ли постоянная жизнь в языке — следствие способности видеть и слышать — формой моей слепоты? От чего нужно отказаться, чтобы обнаружить в себе способность к со-общению — и к сообществу?


ПОСЛЕДНИЕ ВСПЫШКИ СВЕТА
Даша Чернова:
Выше я писала, что чувствую неспособность кино передать опыт незрячего человека. Но кино способно на нечто другое, что теперь, в частности, после слов Оли и Полины, мне кажется более значимым. Кинематограф не только расширяет зрение, позволяет увидеть то, на что неспособен глаз человека, он также может ослеплять. Есть фильмы, настолько неистово мерцающие и дрожащие, что их просмотр можно сравнить с опытом взгляда на солнце в зените, с внезапным ударом луча прожектора по глазам, с прогулкой по ночному Токио. Я никогда не была в этом городе, но почему-то, наверное, именно благодаря кино представляю этот город как горящий ком света, миллион светящихся вывесок, которые умерщвляют зрение своей интенсивностью.
Таким опытом для меня стал просмотр фильмов Стома Сого, чья фигура была отправной точкой для этого текста. О нем вспомнила Ира, я захотела посмотреть его фильмы. Первая попытка была болезненной. Я лежала в кровати в Москве, ловила какой-то невероятный приход от безумных вспышек на экране, а потом в квартире треснула стена. Этот грохот испугал меня и кошку, которая вскочила и оцарапала меня. На бедре до сих пор шрам. Это какая-то эзотерика, но я очень хорошо помню тот вечер и вижу неслучайную связь между всеми событиями. За одну минуту я частично ослепла, частично оглохла, испытала страх и осталась с кровавой царапиной. Через день я узнала, что в пространстве Île Thélème будет двухчасовой показ Stom Sogo Mix (2000), который нельзя найти в интернете. Это был один из лучших вечеров прошедшего лета. Эти фильмы испытывают взгляд на прочность, вспышки света отпечатываются на поверхности глаза, пятна практически обладают объемом, их движение передается всей комнате. А ты сидишь внутри этой слепоты и физически осознаешь границы собственного взгляда. Я не могу описать, на что я смотрела два часа. Можно сказать, что я ничего не видела тогда, но чувствовала себя. Ни один другой киноопыт за последнее время не оставил такого отпечатка на мне. Другие фильмы стирают меня как субъекта, перетягивают внимание на себя, не дают мне ничего почувствовать, я не могу поместить себя в них или найти там себя. Я думаю, анализирую, ищу ответы, рассуждаю о репрезентации, правде и так далее… Я сижу напротив, между мной и фильмом всегда есть дистанция. Стом Сого вылил на меня столько света и энергии, что я ощутила какое-то глубинное счастье от того, что могу просто быть в этом пульсирующем зале, постепенно терять ощущение контроля за тем, на что и куда я смотрю. С этим фильмом получилось слиться. После просмотра глаза болели, сосуды в них лопнули, мир был немного другого цвета и узнать его было не так просто. Кино ослепляет, и это круче красивых кадров, важных историй и глубоких персонажей.
Лена Голуб:
Я тоже смотрела работы Стома Сого этим летом. Это было перед сном. Помню, как долго еще не могла уснуть из-за пульсирующих век. Кино закончилось, долгожданные три часа не-света во время петербургских белых ночей — я лежу с закрытыми глазами в полной темноте и тишине, залитая светом изнутри. Сого называет свои фильмы «ментальными конфетами для глаз, которые сначала кажутся очень сладкими, а потом вызывают судороги» [17]. Я в пространстве, в котором глазу не за что зацепиться.
Режиссер Натаниэль Дорски очень изящно указал на слепую зону, которая всегда сопровождает кинопросмотр: «Мы смотрим фильмы в контексте темноты. Мы сидим в темноте и наблюдаем освещенный мир, мир экрана. Эта ситуация является метафорой природы нашего видения» [19]. И в этот момент мы находимся на грани исчезновения: когда сам экран становится черным, комната исчезает [20].
Дорски описывает ситуацию кинопросмотра, как если бы мы смотрели на движущиеся изображения внутри платоновской пещеры. Сого делает эту ситуацию подобной платоновскому смотрению на солнце, о котором речь шла в начале. Образы Сого плавят границы экрана, заливая все своим парализующим светом. Вибрирующий экран разрушает смыслы, образы и язык, которые, как сказала Оля, дискредитировали себя. И здесь необязательно занимать сторону света или тьмы. Ослепление — это часто жестокая игра контрастов.
Пожалуй, одна из самых многогранных кино/медиаисторий о слепоте — это the Blindness series (1992–2006) вьетнамско-американской художницы Ким-Транг Тран (Kim-Trang Tran). Каждый эпизод (всего их восемь) рассматривает уязвимости как зрения, так и слепоты. Художница развивает метафоры видения через истории перверсий, болезней, желаний, войн и технологий. Из восьми эпизодов я видела два: kore (1994) и ekleipsis (1998). ekleipsis посвящен феномену «истерической слепоты» — ослеплению, которое появляется на фоне психического потрясения. Ким-Транг Тран снимает камбоджийских женщин, которые от ужасов войны до ослепления проплакали свои глаза. В этом эпизоде черный экран дробит аудиовизуальный ряд на дискретные кадры. Такая ритмическая рябь черного и освещенного создает стробоскопический эффект.
kore исследует зоны видимости и невидимости сексуальности. Этот фильм тоже работает на контрастах: одни завязывают глаза, чтобы заниматься сексом в темноте, другие рассеянно существуют с широко распахнутыми — ослепшие от СПИДа люди. Врач, у которой художница берет интервью, говорит: «Если у тебя СПИД, ты выбираешь между тем, чтобы ослепнуть или умереть».
Но не вся слепая зона — пульсирующе черно-белая. Дерек Джармен, переживающий погружение в слепоту из-за болезни, создает заливающую своей интенсивностью и густотой синеву.
Ира Ломакина:
Я долго подбиралась к тому, чтобы посмотреть Blue (1993) Дерека Джармена — еще один ослепляющий фильм, который выходит за границы экрана. Помню, как несколько раз пыталась его посмотреть, но синяя тоска накрывала с головой, и я выключала его. Месяцы и даже годы шли. И вот, наконец, я дочитала его дневник «Современная природа» — что тоже заняло много времени, потому что было тяжело читать письмо умирающего. Я читала небольшими отрывками: вечерами в общежитии осенью 2022, в новой квартире весной 2022, и закончила осенью 2023.
Don’t go and leave me
And please don’t drive me blind [21]
В октябре с ребятами собирали программу для киноклуба в мастерской «Горка», которой дали название «(Бес)Пределы кино». И, как мне интуитивно показалось, настало время Blue. Были опасения, что никто не придет смотреть полтора часа в синий экран. Но пришло много людей, друзья из мастерской сделали невероятный ультрамариновый свет (так фильм распростерся на все пространство зала), и мы все погрузились в синеву.
Тема слепоты в этом фильме — одна из магистральных. Дерек начал слепнуть из-за осложнений СПИДа, и, кажется, больше не смог снимать мир таким, каким видел его прежде. Он развернул камеру, обычно направленную во внешний мир, вовнутрь себя [22]. И несмотря на то, что на экране мерцал (и у кого-то из зрителей даже двигался) только синий цвет, мы увидели многое. Картину 1980–90-х и политическое высказывание о времени, чуткость к ближнему, последние мучительные дни художника, исповедь. Однажды Виктор Аронович Мазин сказал, что-то, что мы видим, и то, что мы слышим, — не коррелируют друг с другом, не всегда взаимосвязаны. Blue прекрасно это иллюстрирует. Слепота может обострить чувства, и синий фильм может показать больше, чем любой другой вид репрезентации.
