Экспериментальная философия Андрея Монастырского
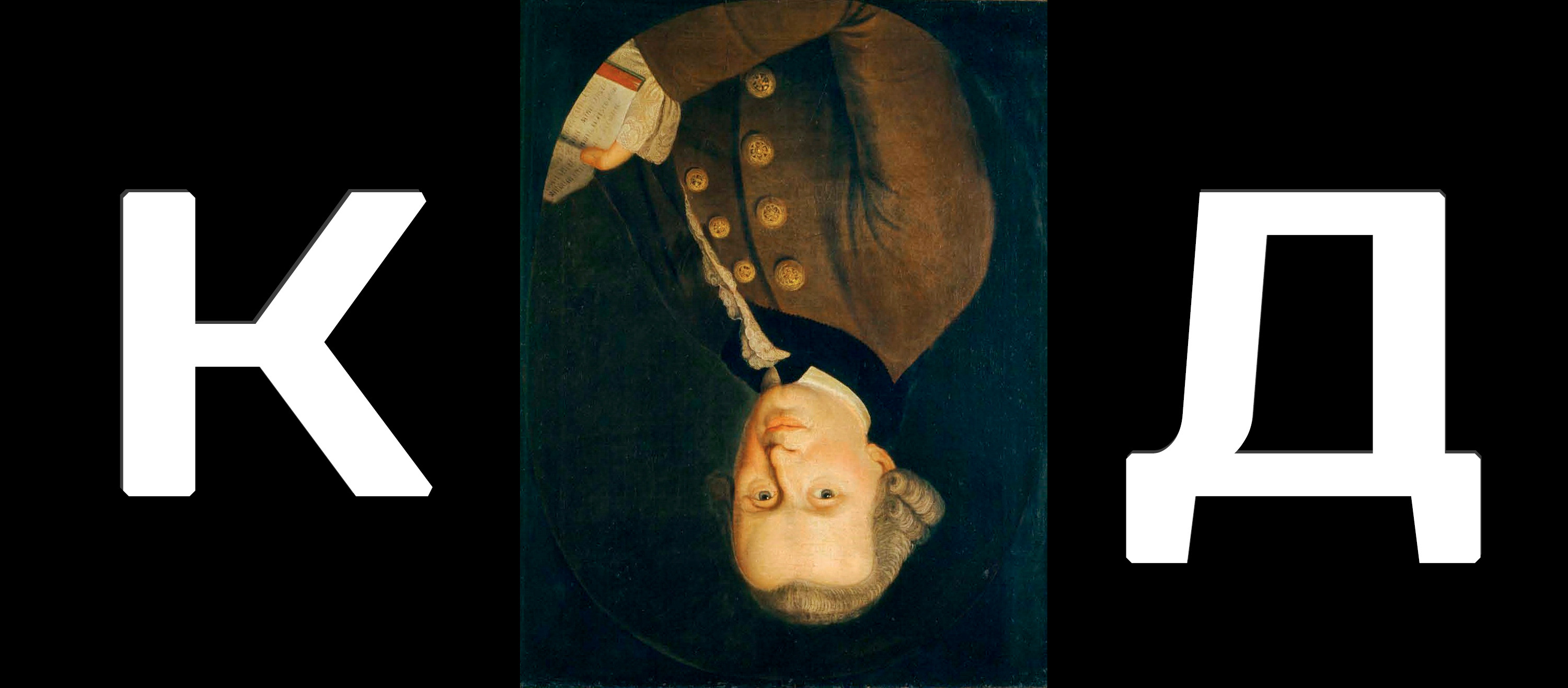
Современное понимание эстетики как некоторой области, связанной с искусством и понятием прекрасного (что, разумеется, давно не одно и то же) принято отсчитывать от Александра Баумгартена — немецкого философа XVIII века, последователя Лейбница и Вольфа. В историю мысли Баумгартен вошел в первую очередь тем, что расчистил в интеллектуальном ландшафте место под отдельную философскую дисциплину, изучающую чувственность человека, которую он назвал эстетикой.
До Баумгартена в философском мэйнстриме (который тогда был занят поздним изводом рационализма) чувственность обычно считалась частью общего механизма познания, а место чувственных восприятий в эпистемологической иерархии было где-то между полным отсутствием какого-либо знания о мире и рациональной истиной. В классической философии рационализма развитие чувственности должно неминуемо приводить субъект к пониманию, что высшая красота (как и высшая истина) рациональны, и чувственные восприятия — это просто ступенька на лестнице к универсальному.
В философии Баумгартена чувственность обособляется как отдельный механизм познания реальности, альтернативный или параллельный рациональному. По Баумгартену чувственность может развиваться в человеке как бы сама по себе — у нее есть свои вершины, которых можно достичь, причем достижение требует даже некоторого отказа от абсолюта рационализма. Все те вещи, что чувственная сфера производит, в том числе и произведения искусства, можно успешно изучать отдельно от логики или математики, лишь при необходимости пользуясь их аппаратом, считает Баумгартен.
Такое понимание эстетики без особых изменений дожило до наших дней. Если поискать в Гугле слово «эстетика», становятся ясными по крайней мере три коннотации, которые прямо сейчас находятся в активном языковом употреблении:
— название философской дисциплины («что такое эстетика», «что изучает эстетика»);
— область бытового существования человека, связанная с прекрасным (слово «эстетика» часто фигурирует в названиях салонов красоты, стоматологии, магазинов мебели);
— присущий чему-то характерный стиль (например, «эстетика 90-х», «эстетика вэйпорвейва», «эстетика ****** (окраин)»).
Общим местом этих прочтений является связанность с понятием красоты — либо с тем, что принято считать красивым; либо с тем, что еще не совсем принято, но можно считать красивым; либо с тем, что в принципе можно было бы считать красивым (последнее и относится к «философскому» прочтению термина).
Однако, процесс принятия эстетики как обособленной философской дисциплины вполне мог пойти по другому сценарию, окажись проект Баумгартена чуть менее успешен. Против «баумгартеновского» толкования слова «эстетика» выступал самый выдающийся из его опосредованных учеников — Иммануил Кант. Известно, что еще до своего «пробуждения от догматического сна» Кант читал лекции по философии именно на основе «Метафизики» Баумгартена, считая ее лучшим пособием не только для студентов, но и для раннего себя.
Вот что пишет Кант по поводу эстетики и Баумгартена уже после «пробуждения», в одном из примечаний «Критики чистого разума»: «Только одни немцы пользуются теперь словом эстетика для обозначения того, что другие называют критикой вкуса. Под этим названием кроется ошибочная надежда, которую питал превосходный аналитик Баумгартен, — подвести критическую оценку прекрасного под принципы разума и возвысить правила ее до степени науки. Однако эти старания тщетны. Дело в том, что эти правила, или критерии, имеют своим главным источником только эмпирический характер и, следовательно, никогда не могут служить для установления определенных априорных законов, с которыми должны были бы согласоваться наши суждения, касающиеся вкуса, скорее эти последние составляют настоящий критерий правильности первых».
В противовес Баумгартену Кант вполне разумно замечает — строить науку о чувственных представлениях на основе самих чувственных представлений невозможно, потому что в рамках такой дисциплины просто не будет вещей, о которых все могли бы договориться. Кроме того, изучение прекрасного на уровне чувственного восприятия по Канту просто не должно иметь смысла, так как понятия, в том числе понятие красоты, возникают лишь на уровне рассудка, но не на уровне чувственности. Чувственность, по Канту, лежит в самом основании какого бы то ни было восприятия, являясь условием его возникновения. Поэтому чувственные созерцания — это не погруженные в туман смутные представления, а возможность и условия какого-либо познания вообще, фундамент эпистемологического аппарата.
На уровне чувственности существуют априорные механизмы восприятия, лежащие в основе познания. Кант выделяет две априорных формы чувственности — пространство и время. Чтобы явления вообще могли быть как-то восприняты познающим субъектом, они должны быть оформлены как пространственные и временные — другими словами, имеющие протяженность и длительность. Можно зайти в рассуждения Канта и с другой стороны: если попытаться очистить любое восприятие от всякого его содержания, оставив лишь его чистую форму, то останутся только его пространственные и временные характеристики. Лишь пространство и время не даются непосредственно в чувственных явлениях, а поэтому являются не содержанием, но формами созерцания этих явлений.
Такая чувственность уже может быть объектом исследования некоторой философской дисциплины, так как включает в себя общие для всех разумных существ законы восприятия. В противовес Баумгартену, Кант также назвал свою свежевыдуманную дисциплину «эстетикой» (ведь она изучает чувственность, пусть и понятую в другом смысле), но добавил к ней слово «трансцендентальная», то есть предшествующая всякому опыту. Первый раздел «Критики чистого разума» так и называется — «Трансцендентальная эстетика», что должно производить странное впечатление на людей, впервые открывающих книгу в наше время и привыкших к прочтению термина «эстетика» в совершенно ином ключе (но что, вероятно, не было странным во времена Канта).
Исторической задачей Канта было заставить философов отвлечься от бесконечной каталогизации и посмотреть на сами условия возможности явлений, представлений, опыта и познания, поэтому вместе с Юмом он справедливо считается основоположником критической философии. Пожалуй, до конечной стадии эту стратегию философствования много позже довел Эдмунд Гуссерль, сформулировав принцип феноменологической редукции.
Примерно в одно историческое время с Гуссерлем похожий на кантовский критический ход проделали в искусстве Дюшан и авангардисты, которые представили предметом своего искусства аппарат создания и понимания самого искусства. Спустя полвека эти идеи перекочевали в концептуализм, в том числе московский, одним из исторических представителей которого является художник Андрей Монастырский, испытавший, помимо прочего, прямое влияние Канта. По словам Монастырского, «Критика чистого разума» впервые попала к нему в 15 лет и была частично им законспектирована.
Временные и пространственные переживания являются конструктивными элементами многих акций главного проекта Монастырского — группы «Коллективные действия» (КД). Направленность на
В хрестоматийной акции «Время действия», относящейся к тому же периоду, участники полтора часа вытягивали из леса намотанную на катушку веревку — такое символическое связывание (веревкой) временного отрезка (процесса вытягивания) с пространственным (покрываемого веревкой) вообще очень характерно для творчества «Коллективных действий». Наглядные примеры более поздних периодов — акции «Такси» 1986 года или «Лозунг-2016 со вшитой вошью и Уорхолом», которые объединяют темпоральную фиксацию с помощью некоторого аудиального потока, а также пространственную — с помощью зафиксированного преодоления некоторого маршрута.
Фиксация пространственно-временного интервала как объекта эстетического высказывания достигается с помощью действия и его документации. Но чтобы такая фиксация не заслоняла чувственный пространственно-временной «скелет» акции, совершаемое действие обнаруживает необходимость стать содержательно «пустым», не иметь никакого семантически обозримого горизонта. Это обеспечивает возможность дальнейшего снятия и редукции любого содержания.
Художественная акция КД часто состоит из прохождения некоторого пространственного интервала в одной из любимых Андреем Монастырским локаций — поля, леса, окрестностях Лосиного острова, Яузы, железно-дорожной станции Калистово в
Место и время действия акции КД выступают не контекстуальным фоном, а скорее материалом, с которым работает художник. Иногда пространство физическое связывается с пространством символическим и прохождение пространственного интервала становится движением между смысловыми единицами акции, репрезентацией которых могут служить фотографии, тексты/книги, звуки, воспроизводимые аудио-записи или действия участников акции в определенной точке (иногда отмечаемой на карте). Периоды ожидания или созерцания пригородных пространств как объекты эстетизации являются сознательной стратегией художника — Андрей Монастырский сам называет в качестве основных элементов своего творчества именно пространственно-временные созерцания.
Но, несмотря на кантианское наполнение, «эстетизация» времени и пространства в работах КД происходит именно в современном понимании термина «эстетика», идущим от Баумгартена, нежели в том, которое имел в виду Кант — хотя бы потому, что описываемая деятельность относится к области искусства, а не рациональной (то есть всеобщей) эпистемологии. Хотя необходимость в разделении эстетики и эпистемологии лежит глубже затронутых в тексте пластов, даже отказ от такого разделения все равно исключает кантовскую оптику, ведь, по Канту, заниматься трансцендентальным в области эстетики как «науки о вкусах» невозможно.
Но в творчестве Монастырского скрещивание эстетики Баумгартена с философией Канта
Эстетика Монастырского опирается на очищенные от опыта и свободные от всякого содержания чувственные формы созерцания, которыми снова оказываются пространство и время. Лишенные содержания созерцания являются в творчестве Монастырского конечной точкой его эстетического дискурса, своеобразной обрамленной в раму пустотой (причем пространство и время выступают в качестве рамы, но не в качестве пустоты, которая онтологически неустранима). Эти два понятия — «рама» и «пустота» — активно употребляются и самим художником. Пустота как конечная точка семантической редукции и рама как минималистский остаток формальной составляющей произведения являются полным аналогом кантовских чистых форм созерцания в искусстве — после снятия всего того, что можно снять, остаются только они. Пространство и время как субъективные переживания и как формы чувственности, с которыми работает художник, выступают в работах Монастырского не только в роли рамы, но и в роли холста, являясь в духе времени (а мы говорим о второй половине ХХ века) одновременно и предметом, и материалом искусства.
Эстетизация философских категорий — не только пространства и времени — оказывается очень удачным полем деятельности для художника эпохи Монастырского. То, что предполагал сделать Кошут — превратить искусство в философию — с большим успехом (по мнению автора) проделал Монастырский, но в обратном направлении — превратил философию в искусство. Пожалуй, наиболее характерной в этом плане является работа Монастырского «Палец» 1977 года.
Работа состоит из черного ящика без дна, на лицевой стороне которого проделано отверстие — предполагается, что зритель работы просунет в ящик руку и высунет через отверстие указательный палец, таким образом указывая на самого себя. Конечно, жест указания на
Совсем прямолинейной отсылкой к Канту и его концепту «вещи в себе» является работа «Кепка» 1983 года. Зритель работы, поднимающий кепку с прикрепленной к ней биркой «Поднять», обнаруживал под ней записку: «Поднять можно, понять нельзя». В этой работе можно усмотреть намек (который, впрочем, мог и не прогнозироваться художником) не только на непознаваемость остающейся всегда внешней в отношении познающего субъекта реальности, но и на возможный путь преодоления такого оголтелого кантианства. Ведь само взаимодействие с кепкой дает возможность коммуникации с внешней реальностью, проведению эксперимента. Радость узнавания границ собственного (не)понимания оказывается итогом такого эксперимента и частью аффекта произведения.
Существует известный апокриф о том, как знаменитый литературный критик и современник Канта Самуэль Джонсон, желая на прогулке в разговоре с собеседником опровергнуть доводы того в пользу субъективного идеализма, со всей силы пнул лежащий на земле камень. Такого рода экспериментальные и философские аргументы становится трудно недооценивать в современном контексте, когда философия оказалась зажатой в тесном пространстве между непомерно (но закономерно) раздувшимися полями науки и искусства, и, диффундируя в эти области, создает новые способы коммуникации с физической и символической реальностями.
