Демократия и мертвецы Александр Мелихов
Матей Вишнек (р. 1956) — румынский писатель, чей роман “Господин К. на воле” (“ИЛ”, 2009, № 4), по словам автора, не только эхо Кафки (“Процесс” начинается с того, что Йозефа К. арестовывают, а у Вишнека Козефа Й., наоборот, выпускают из тюрьмы), но и вариации на тему его собственного шока, пережитого в 1987 году по приезде в Париж. Увы, даже в “свободном мире” невозможно освободиться от необходимости есть, пить, одеваться и согреваться. Не только телом, но и — самое сложное — душой.

Одиночество, мизерность в миру переживается так мучительно потому, что она открывает нам глаза на нашу мизерность в мироздании. От осознания которой люди и стремятся укрыться в коллективные сказки, метафизические и политические, ибо сказки индивидуальные способны защитить лишь редких счастливчиков, одержимых не черным, но светлым безумием.
Козеф Й. человек нормальный — его озадачило и оскорбило, когда пожилые охранники провезли мимо него тележку с завтраками, даже не задержавшись. Зато потом они заглянули к нему в камеру и, вместо того чтобы профилактически отметелить, принялись угощать его куревом и
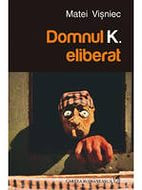
Но — бега мгновений не остановить, хоть говори им, хоть не говори, что они прекрасны. Пока Козеф Й. отсыпается в незапертой камере, остальные отправляются работать на тюремном огороде, где им обычно удается подзаправиться горохом и фасолью. Козеф Й. чувствует себя обойденным, но выйти не решается, зовет охрану; не дозвавшись, отправляется на поиски и в лифте вдруг чувствует, что его вот-вот вырвет, однако в последний миг приятель-охранник тащит его — в клозет для охраны! Так что даже когда его выворачивает над привилегированным унитазом, узник продолжает ощущать гордость — таков был момент, когда он узнал, что уже с утра свободен.
После этого ему удается справиться с соблазном отмотать про запас побольше туалетной бумаги — сейчас “он был выше этого”. Зато теперь он должен был от
Зато когда мимо его незапертой камеры во второй раз пронесли поднос с едой, он просто рассвирепел. Но тут уж и друзья ничем не могли помочь при всем сочувствии: “Вас вычеркнули”. К счастью, в отличие от мира Кафки, в мире Вишнека государственную машину можно и обойти: на теплой кухне добродушная кухарка Розетта от пуза наливает ему какого-то комковатого варева. Хлеб без ограничений, а хлёбова можно и добавить.
На следующий день, отоспавшись в незапертой камере, Козеф Й. снова завтракает на кухне уже вполне обыденно, а затем дружки-охранники напоминают ему, чтобы он сходил на склад сменить тюремную робу на городскую “одежу” (перевод с румынского Анастасии Старостиной). Склад в воскресенье закрыт? Тоже не беда, можно пока помочь доброй кухарке с мытьем посуды (“Толстушка, но хороша”). Перед сном Козеф Й. решил побродить по территории и с негодованием обнаружил, что ворота не заперты — он почувствовал себя ответственным: нужно оповестить охрану!
Тем не менее он выглянул наружу и не увидел там ничего особенного: проселочная дорога, какой-то сад… Все же он не без удовольствия повалялся на карликовой травке, полюбовался хиленькой звездочкой над зданием кухни, на горизонте разглядел что-то вроде города, затем откусил от яблока, не решившись его сорвать, и засмеялся. Собственная смешливость его смутила — уж не сделался ли он дурачком?
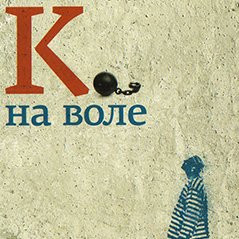
И тут в его сердце толкнулась тревога — что-то слишком далеко он забрел, да еще в робе, что подумают люди! А могут и пристрелить…
“Когда Козеф Й. добежал до ворот и увидел, что их между тем заперли, он чуть ли не взвыл от ярости.
Разъярен он был в первую очередь на себя — за то, что дал себя завлечь. Слово завлечь показалось ему недостаточно сильным. Он дал себя просто-напросто уволочь самому низменному инстинкту, ребяческой иллюзии, химере. Он поставил на кон свое новое положение, все, что только начало наклевываться в его новом качестве свежеосвобожденного человека. Как он оправдается перед двумя старыми охранниками? Какими глазами они будут смотреть на него? Сможет ли он теперь умываться над их раковиной и есть на кухне? А Розетта — примет ли она теперь его помощь в мытье посуды?”
В отчаянии он бредет вдоль бесконечной стены, и, когда наконец наталкивается в темноте на сынишку Розетты, играющего с ежиком (свой, значит как-то можно перебраться за стену), его охватывает чувство спасения души.
Вишнек знает, о чем говорит: не о брюхе идет речь — о душе.
Есть такая высокопарная пошлость: либерал ценит свободу выше безопасности. Поскольку слово “либерал” абсолютно безразмерное, то можно, конечно, допустить, что кто-то из подобных титанов духа и впрямь считает себя либералом, а следовательно, таковым и является, ибо я не знаю иных критериев либеральности, кроме самоощущения. Однако римлянин, бросающийся на меч, дабы не пережить погибающей республики, спартанец, бросающийся с башни, дабы не оставаться в рабстве, — их породили общества, очень невысоко ценившие человеческую личность в сравнении с коллективными целями: именно это и воспитало в личности готовность с такой легкостью жертвовать собой. Идеология же, превыше всего ставящая индивида, не может указать ему более высокую цель, не отменив себя самое.
Ни либерал, ни консерватор, ни коммунист, ни фашист не могут прожить без защищенности экзистенциальной — без ощущения причастности к
Козеф Й. вполне входит в проблемы тюремного персонала и даже начинает удивляться покорности заключенных: неужели любому из них можно дать по уху, и тот никак не ответит? Он решается на эксперимент, и заключенный, его преемник по пятидесятой камере, действительно никак не реагирует. Однако же, встретив в заброшенном тюремном дворе беглеца,
После чего обнаружилось, что и у беглеца имеются свои радости: где-то в подвале он разыскал бочки
У охраны Козеф Й. тоже пользуется все большим доверием: охранник-садист, оказавшийся милейшим старичком, предлагает ему на пару съездить на лошади в город по делам. Сначала ему неловко за свою робу, но вскоре он обнаруживает, что она вызывает у вольняшек лишь дополнительное уважение: ишь ты, зэк, а как сумел себя поставить! И его мать тоже явно гордилась таким сыном, вследствие чего он начал опасаться, как бы охранники не проболтались, что он уже свободен, и перестал заходить к складскому толстячку, чтобы тот как-нибудь не навязал ему цивильный костюм.
Зато он помог прячущимся на территории тюрьмы внутренним беглецам (их оказалось много) обзавестись кайлом, лопатой и мотком веревки. После чего перед выездом в город он начал бриться похуже и поменьше спать, чтобы выглядеть “благородным, героическим и в то же время усталым и изможденным. Он был заключенный-победитель, а таковому негоже являться на люди с двойным подбородком и румянцем на щеках.
Он позаботился и о своей робе. Он больше не стирал ее, как раньше, и старался, чтобы она пусть и не расползлась совсем, но была откровенно рваной. Заношенное и рваное платье дополняло его образ достойного борца, который не стыдится своей боевой одежды”.
А беглецы тем временем ценой лихорадочных таинственных усилий до наступления зимы пробиваются в
“От этих людей кошмарно пахло, и они были в плачевном физическом состоянии. В первую минуту Козеф Й. видел одни только головы, как бы сложенные штабелями на полках. Ушедшие вглубь орбит глаза, впалые щеки, отросшие бороды. Беззубые рты, растрескавшиеся губы, ноздри, чудовищно раздутые, как от кислородного голодания”.
Старик, седой как лунь, устраивает ему экзамен, чтобы убедиться, что он действительно сидел в пятидесятой камере, и, удостоверившись, предлагает его казнить: “Человек, освобожденный тамошними, может быть только человеком, целиком подчиненным тамошним”. Кто-то пытается напомнить, что Козеф Й. купил им лопату, кайло и моток веревки, но его прерывает исступленный вопль: “К черту моток веревки!”. “Ты знаешь, что мы тут все дохнем с голоду?” — в затылок Козефу Й. кричит другой. А он когда-нибудь пытался бежать? Пусть докажет! И почему он не пришел прямо сюда, а сотрудничал с режимом?
И
Зато после вступления в сообщество обитателей “свободного мира” его начинает грызть чувство вины перед охранниками, перед толстячком, перед Розеттой…
И тем не менее в одно прекрасное утро его приглашает на прием аж сам Полковник — директор тюрьмы. Так что низший персонал уже начинает просить его замолвить и за них словцо, поведать и об их трудностях. Однако и сам Полковник нуждается в сочувствии “настоящего человека”: “Нам нет места в этом мире, господин Козеф”. Только в оранжерее, среди цветов он отдыхает душой. Хотя и там очень легко приходит в раздражение: “Никогда никому нельзя доверять. Тебе кажется, что ты гуляешь по райскому саду, а они отравляют воздух”.
На свете счастья нет, покоя нет, ни воли. Но в “свободном мире” еще более горячо обсуждается вопрос, до каких пределов должно доходить равенство. Да, отбросы с мусорных тачек должны делиться поровну, но
Но с усилением холодов, когда повеселевшим заключенным начинают выдавать зимнюю экипировку, независимый мыслитель “свободного мира” пророчески поднимает палец: “Зима есть самая большая трагедия нищей демократии”. Зато мы сохранили ДЕМОКРАТИЮ, нервно возражает изголодавшийся и перемерзший хранитель принципов, на что сохранивший хладнокровие прагматик предлагает взять продуктовый склад.
— Это ни в коем случае. Насилие разрушает демократию.
И вдруг главными врагами демократии сделались мертвецы, для которых после ночных заморозков приходилось долбить мерзлый грунт.
“Голоса зароптали. Зачем надо закапывать мертвых? Что, нельзя просто побросать их в пустой бассейн или в помойную яму? Нет, был ответ. Мертвых нельзя бросать. Демократия заботится о своих мертвых”.
Так родилась новая экономическая политика. “Надо было сохранить демократию. Надо было — временно — вернуться в камеры”. Но в камерах свободных мест не было. Значит, нужно было захватить несколько зэков, а на их место вернуть людей свободных (кого именно — вопрос отдельный) — охрана ничего не заметит, она различает только номера.
“Самые светлые умы приготовили веревки и кляпы для тех, кого предстояло освободить. Для них отвели один из заброшенных подвалов. Организовали караульную службу на ту неделю, в течение которой, как сочли светлые умы, будет продолжаться ассимиляция.
Испытующие глаза начали терять терпение. Умы думали быстрее и быстрее. Голоса озлоблялись донельзя. ‘Накопили жирку-то’, — говорили голоса, когда испытующие глаза мерили взглядом зэков, ведомых на работу. ‘Во щекастые’, — говорили голоса. ‘Во мордатые, а
И
Зато Козеф Й. оказался одним из тех счастливчиков, кому было дозволено ради спасения демократии временно вернуться в свою бывшую камеру.
“А при скрипе тележки, на которой, он знал, развозили подносы с завтраком, Козефа Й. заполонило чувство признательности. Да, есть еще гуманность на этом свете, еще возможна надежда”. У Козефа Й. “дух занялся”, когда настал миг встретиться глазами с
Роман может быть прочитан как злобный пасквиль на демократическое движение, в котором наследник Ионеско успел прилично повариться в родной Румынии; в романе можно усмотреть и обличение человеческой покорности, готовой обменять свободу на чечевичную похлебку, но в нем, возможно и бессознательно, автор сформулировал истину до крайности очевидную, однако слишком обидную, чтобы о ней помнить: чтобы служить каким бы то ни было высшим ценностям, необходимо выжить. Физически и психологически.
Необходимость есть, пить, одеваться и справляться с ужасом одиночества и бессилия перед мировым хаосом и порождает деспотизм: чем напряженнее борьба за выживание, тем большей концентрации сил она требует, а концентрация сил неизбежно приводит и к концентрации власти. Было бы слишком хорошо, если бы угнетение порождали только угнетатели, — тогда можно было бы еще надеяться, что с их уничтожением исчезнет и гнет, — но увы, борьба людей с природой и друг с другом будет неизменно порождать и подчинение, тем более жестокое, чем более жестокой будет борьба.
Если даже воля к власти и заложена в природе человека (есть, однако, народности, у которых она никак не проявляется), то уж воли к подчинению точно не существует. Зато еще более точно существует воля к выживанию, и то, что светлые умы называют бегством от свободы, есть на самом деле бегство от гибели и отчаяния (которое, впрочем, тоже лишь один из самых мучительных путей к гибели). От этой постоянно надвигающейся пропасти человечество будет бежать до самого своего конца. Тем самым, возможно, его и приближая.
Скучно на этом свете, господа…
