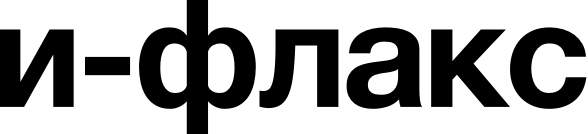Империя в зеркале «Бучи». Оксана Зверь

1 апреля 2022 года в мировых новостях появились жуткие кадры из Бучи — города в Киевской области, который в течение месяца был оккупирован российской армией. Тела мирных жителей, в том числе женщин и детей, находили обгорелыми, со связанными руками, со следами пыток, надругательств и изнасилований. Повсюду были трупы: на улицах, в подвалах домов, а также в братских могилах, наскоро вырытых военными, чтобы скрыть следы. Российские официальные СМИ назвали эти снимки фейком и провокацией и заявляли, что украинцы сами инсценировали убийства, чтобы дискредитировать вооруженные силы РФ. 18 апреля 64-я отдельная мотострелковая бригада, орудовавшая в Буче, получила от президента Путина почетный статус гвардейской. Так мы узнали, что в XXI веке не только все еще возможны геноцид, пытки и массовые убийства, но и тех, кто совершает эти преступления, могут чествовать как героев.
С геополитической точки зрения война есть война, и на войне возможно все. Чрезвычайное положение нормализует насилие как средство, оправданное целями отдельных государств или альянсов. С моральной точки зрения то, что произошло в Буче, есть чистое зло, не поддающееся рациональному объяснению. Корни патологической одержимости военных жестокостью ищут в национальном характере или русской культуре с ее культом насилия. Но помимо геополитического цинизма, оправдывающего военные преступления, и либерального морального сознания, обличающего тех, кто их совершает, можно представить и не столь очевидную точку зрения: Буча и не правило, и не исключение, не скандал, но одно из имен для чего-то, что время от времени повторяется в истории человечества, независимо от уровня прогресса и развития в тех или иных географических координатах.
Термин «театр военных действий» используется для обозначения той ограниченной территории, на которой идут бои. У такого театра нет автора в собственном смысле слова. Генералы, создающие стратегии и тактики военной игры, не в счет, так как их ходы ситуативны и определяют лишь схемы наступлений или отступлений, в то время как сцены жестокости и смерти разыгрываются независимо от какого бы то ни было замысла. Если война — это театр, то Буча — это сцена, но совсем не в том смысле, какой подразумевала российская пропаганда, обвиняя украинскую сторону в инсценировках. Подобные сцены вызывают ужас и отвращение. Мы хотели бы их развидеть и вытеснить, заменив чем-то более приемлемым.
Психологический механизм отрицания указывает на вытеснение некоторого содержания. В психоанализе такое вытесненное содержание крайне важно для понимания скрытой истины субъекта, тайны его бессознательных желаний и влечений. Что, если Буча — это кривое зеркало, в котором человек никак не может узнать самого себя, отворачиваясь от своей собственной пугающей проекции — бесчеловечного Другого как источника зла? Сцена Бучи, как и другие, похожие или непохожие на нее, сцены геноцида и наиболее жестоких преступлений, перед которыми мы немеем и замираем в ужасе, обнажает избыток того, что Славой Жижек определял как «…нечеловеческую суть человеческого, то измерение, которое немецкие идеалисты называли негативностью, а Фрейд — влечением к смерти». {1}
О влечении к смерти (Todestrieb) Зигмунд Фрейд писал, в частности, в книге «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Фрейда заинтересовал тот факт, что пациенты, вернувшиеся с Первой мировой войны и страдающие от травматического невроза, или, как его сейчас называют, «пост-травматического стрессового расстройства» (ПТСР), часто видят повторяющиеся сны, содержание которых отсылает к реальному негативному опыту: «Сновидения при травматическом неврозе обнаруживают такую особенность, что они снова и снова возвращают больного к ситуации произошедшего с ним несчастного случая, от чего он каждый раз просыпается в испуге».{2} При этом Фрейд настаивал на «тенденции сна к исполнению желания».{3} Что за желание исполняется таким окольным путем? Очевидно, такое желание отличается от простого поиска удовольствия. Разобрав несколько возможных позитивистских объяснений феномена навязчивого повторения, Фрейд выдвигает спекулятивную гипотезу, в соответствии с которой оно должно быть «более ранним, более элементарным, более связанным с влечениями, чем оставленный им в стороне принцип удовольствия».{4} Это примитивное влечение консервативно. Его «можно было бы определить как присущее живому организму стремление к восстановлению прежнего состояния (курсив Фрейда)»{5}, то есть, возврату в состояние неорганической материи. Влечение к смерти не доходит до нашего сознания, но в скрытой, измененной форме проникает во все виды желаний. Однако в некоторых случаях оно выходит наружу. Одним из таких случаев как раз является война.
В письме Фрейда Альберту Эйнштейну, озаглавленном «Почему война?» (1933), на передний план выходит еще один аспект влечения к смерти — агрессия. Фрейд пишет, что существует два вида влечений: «нацеленные либо на сохранение и объединение […], либо на разрушение и смерть […]».{6} Фрейд связывает эротические и деструктивные влечения с такими оппозициями, как любовь и ненависть или притяжение и отталкивание, подчеркивая их взаимосвязь. На самом деле мы не можем отделить одно от другого. У войны всегда есть приверженцы, так как страсть к разрушению действует под личиной патриотизма, религии или других позитивных ценностей:
«Иногда, когда мы слышим о зверствах в истории, у нас возникает впечатление, что идеальные мотивы служили деструктивным влечениям только предлогами, в других случаях, например, когда речь идет о жестокостях святой инквизиции, мы полагаем, что в сознании на передний план были выдвинуты идеальные мотивы, а деструктивные обеспечили им бессознательное подкрепление».
Деструктивное влечение, которое высвобождается на войне, — это не влечение к смерти как таковое, но скорее результат сложного процесса его инверсии: «Влечение к смерти становится деструктивным влечением, когда оно при помощи особых органов обращается вовне, против объектов. Живое существо сохраняет, так сказать, свою собственную жизнь благодаря тому, что разрушает чужую».
Влечение к смерти считается довольно спорным понятием, но есть основания полагать, что дальнейшее погружение в индивидуальную и массовую психологию в контексте все новых войн и других травматических процессов в современном обществе рано или поздно заставит нас признать правоту Фрейда. Однако для того, чтобы понять сцену Бучи в ее исключительности, недостаточно простого жеста применения психоаналитической теории к эмпирическим данным. Такое применение всего лишь дает общее понимание, почему эта сцена внушает нам столько ужаса и отвращения. Да, Буча — это зеркало, но зеркало чего? Иными словами, каков тот субъект влечения к смерти, который в Буче выходит на сцену?
19 апреля (то есть, вскоре после Бучи) российскому писателю Александру Никонову позвонил актер Иван Охлобыстин. Он был пьян, и, очевидно, обзванивал друзей, чтобы попрощаться и сообщить о своем намерении ехать в Украину воевать за Путина (конечно, никуда он в итоге не поехал). Никонов записал разговор и поделился им в Интернете, снабдив запись комментарием о том, что эти откровения хорошо иллюстрируют умонастроения российских ура-патриотов. Вот несколько выдержек из речи Охлобыстина:
Россия всегда будет выигрывать. Мы выиграем! […] даже если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! В едином порыве! […] Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. […] Это клево! Но у нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С божьей помощью … Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!…{9}
В возбуждении перед лицом смерти Танатос являет себя в чистом виде. Можно было бы охарактеризовать это как случай психоза, индивидуального и коллективного, когда апокалиптические мечты провластной интеллигенции воплощаются в действительность военными как реальными актерами театра войны в их passage à l’acte, в кровавых сценах наподобие тех, о которых свидетельствуют снимки из Бучи. Однако я не компетентна ставить диагнозы. Меня интересует влечение к смерти в той особой исторической ситуации, когда империализм внезапно превращается в фашизм.
Сегодня это происходит с моей страной и моим народом. Что-то похожее уже происходило в других странах, и вероятно через
Сравнение путинской России с гитлеровской Германией или Италией времен Муссолини многие сегодня считают недопустимым или не вполне корректным, однако следует указать на определенную структурную гомологию этих режимов. В частности, в ряду базовых признаков фашизма в каждом из них обнаруживается ностальгия по великому имперскому прошлому, сопровождающаяся чувством превосходства нации, чей политический этос сводится к идее завоевательной войны, захвата территорий и доминирования над другими группами. Между империализмом и фашизмом существует связь, но она не прямая: призыв к восстановлению прежней империи совсем не обязательно несет в себе зародыш фашистской идеологии.
Логика империи прекрасно описана Гегелем в 6 главе «Феноменологии духа», в подразделе, озаглавленном «Правовое состояние». Гегель делится своими интуициями в области массовой психологии и вводит любопытную фигуру — господин мира. Это монструозная фигура, выражающая себя в актах избыточного насилия над атомизированными индивидами — гражданами империи. Такие индивиды, называемые также абстрактными лицами, образуют форму базовую форму капиталистической субъективности. Лицо в формальном смысле, к которому человек сведен в правовом состоянии, — это абстрактная и пустая единица. Единственной его опорой в реальности является собственность. Но то, что я есть, не равно тому, что у меня есть. Я могу сколько угодно окружать себя вещами, но при этом там и останусь никем.
Господин мира (император, деспот) выступает как проекция множества атомизированных собственников: он тоже абстрактная личность, но возведенная в абсолют. Он воплощает в себе все прочие лица — и в то же самое время противостоит им, как их отчужденное содержание и сущность. Деспотизм — это непристойная изнанка абстрактного индивидуализма в основании имперского сознания. Далее Гегель описывает, как империя переходит в феодальную монархию, где суверенная власть держится на лести придворной аристократии до тех пор, пока не станет очевидным, что король — голый. Просвещение ведет к революции, а революция кладет конец абсолютизму и начало новому государству, основанному на взаимном признании равных и свободных граждан.
У России имеется собственное имперское наследие, деспотические тенденции которого отчетливо проявляются в наши дни. В 2020 году, когда Путин, удерживавший власть на протяжении 20 лет, изменил российскую конституцию, чтобы обеспечить себе пожизненное президентство, я думала, что в той мере, в какой российская автократия вырождается в нечто наподобие неофеодальной монархии, новая революция в России — лишь вопрос времени. Однако я не учла, что у подобных режимов есть проверенное средство, чтобы продлить себя: вместо революции пришла война. Власть, казавшаяся всего лишь очередной автократией, взяла курс на фашизм.
«За каждым фашизмом стоит неудавшаяся революция». Это высказывание часто приписывают Вальтеру Беньямину, но, судя по всему, речь идет не о прямой цитате, а скорее об интерпретации некоторых его текстов. Так, в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Беньямин заявляет: «Фашизм пытается организовать возникающие пролетаризированные массы, не затрагивая имущественных отношений, к устранению которых они стремятся».{4} В том же ключе, в статье «Психологическая структура фашизма», Жорж Батай называет фашизм «императивным ответом на нарастание угрозы рабочего движения».{5} Оба автора заявляют, что фашизм возникает как способ нейтрализации растущего социального антагонизма, объединяя угнетателей и угнетенных вокруг фигуры сильного лидера. Фашизм канализирует революционную энергию внутреннего протеста в военную агрессию против внешнего врага.
Получается, что фашизм, действуя в соответствии с механизмом, открытым Фрейдом, обладает способностью перенаправлять энергию влечения к смерти: вместо того, чтобы дать себе быть уничтоженной революцией, данная форма отношений власти и собственности, называющая себя нацией или народом, пытается сохранить себя — и находит внешний объект для собственных (само-)разрушительных импульсов. Империя прошлого, к реставрации которой призывает национальный лидер, соотносится с «прежним состоянием», куда побуждает нас вернуться влечение к смерти. Это хтоническое божество Мать-сыра-Земля, одновременно утроба и могила, в темноте которой можно будет наконец упокоиться с миром. Восклицания Охлобыстина о том, что «нам не нужен мир без нашей победы», — не что иное, как агония империи в ее отчаянном, но все еще бессознательном быть уничтоженной в пламени революции.
По мысли Батая, фашизм есть предельная концентрация власти. Общество он делит на две части — гомогенную (класс собственников, являющийся своего рода буфером власти) и гетерогенную (беднейшие слои, угрожающие подорвать status quo). Фашизм начинается с мобилизации, при которой фигура суверена (национального лидера, фюрера) становится центральной точкой аффективного притяжения и нейтрализует опасные движения со стороны периферии: «В отличие от социализма, фашизм предстает как объединение классов — и в этом фундаментальная разница между ними».{12} При фашизме потенциально наиболее опасная и прекарная часть общества становится главным источником поддержки суверенной власти. Именно она в первую очередь подлежит мобилизации и становится армией: солдаты «…в принципе принадлежат к подлой части населения».{13}
Если состояние империи, описанное Гегелем, основано на диалектике господина мира и абстрактного лица, то фашизм, в который скатывается империя, пытаясь сохранить себя, разворачивается между двумя полюсами: вождем и солдатом. С одной стороны, армия ассоциируется с чистотой и славой верховной власти, с другой — с кровопролитием и резней. Военачальник и его солдаты создают динамическое единство, которое проявляет себя в актах разрушительного насилия. Более глубокое философское объяснение этого механизма у Батая очень похоже на гегелевский анализ того, как господин мира подвергает отрицанию абстрактную личность: «В составе армии человеческие существа отрицаются, отрицаются с
После того, как в России была объявлена мобилизация, и каждый теперь — потенциальный солдат, образ, который мы видим в зеркале Бучи, становится четче. По Фрейду мы бы сказали, что бывшая империя пытается сохранить себя, трансформируя свое влечение к смерти в военную агрессию. Но для этого деспот готов отправить на смерть все мирное население. Так, делая вид, будто хочет сохранить себя и уничтожить другого, империя бессознательно пытается уничтожить сама себя. В той мере, в какой власть, являющаяся проекцией нашего собственного ничтожества, подвергает нас отрицанию и уничтожению — сначала как абстрактных личностей в империи или квази-империи собственников, затем — как солдатов в фашистской армии, здесь нет ничего, что требовалось бы сохранить.
Оксана Зверь
Из сборника статей «Перед лицом катастрофы». Сборник выйдет в немецком издательстве Lit на русском языке с участием 12 авторов
* * *
1. Zizek S. Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism. Verso, 2012. P. 830.
2. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. В кн.: Он же. Психика: структура и функционирование / пер. с нем. А.М. Боковиков. М.: Академический проект, 2020. С. 78.
3. Там же.
4. Там же. С. 88–89.
5. Там же. С. 102.
6. Фрейд З. Почему война? / пер. с нем. А.М. Боковикова. В кн.: Он же. Вопросы общества. Происхождение религии. М.: Фирма СТД, 2007. С. 280–281.
7. Там же. 282.
8. Там же.
9. Drunk Ivan Okhlobystin again disgraced: Putin’s accomplice wants to go to fight in Ukraine // Global Happenings. 21.04.2022.
10. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе / пер. с нем. С.А. Ромашко. М.: Медиум, 1996. С. 62.
11. Батай Ж. Психологическая структура фашизма / пер. с франц. Г. Галкиной // Новое литературное обозрение. 1995. 13. С. 101.
12. Там же. С. 97.
13. Там же. С. 93.
14. Там же. С. 93.