Рон Силлиман. Политэкономия поэзии
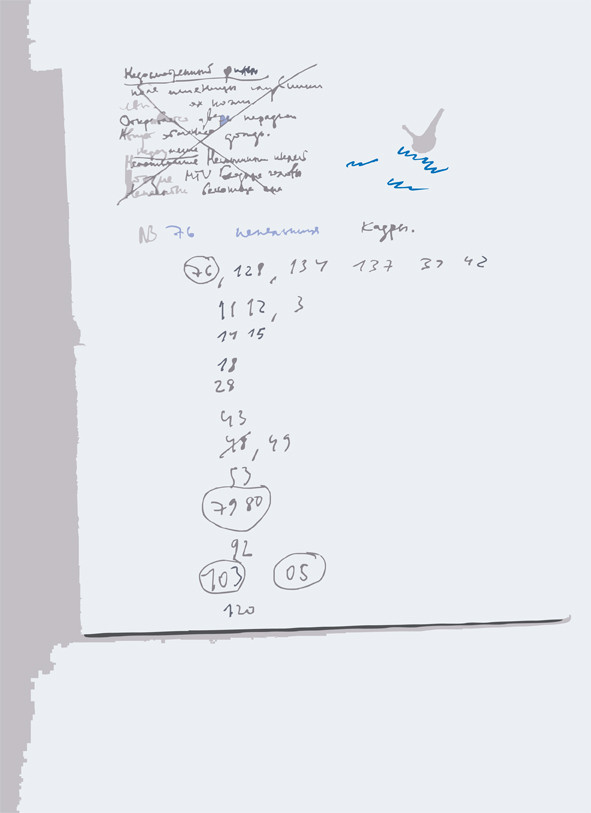
Поэзия — это одновременно и товар и нет. Во многом именно
Даже если автор написал стихотворение и хранит его в своем блокноте, никому не показывая, он производит продукт с реальной потребительской ценностью (частично она может заключаться в самом процессе письма), пусть и для единственного потребителя. Подобным образом два поэта, обмениваясь подборками свежих стихов, вступают в обмен продуктами труда. И даже в том случае, когда небольшим тиражом издается книга стихов, и автору вместо гонорара выдается какое-то количество экземпляров, которые он впоследствии распространит бесплатно по знакомым, болезненная двойственность ситуации будет иметь место.
Книги и тексты, однако, существуют на разных уровнях, и в их создании участвуют отнюдь не одни и те же люди. Еще больше ситуацию усложняют государственные субсидии, даже минимальные, выделяющиеся авторам и издателям в большинстве англоязычных стран. Можно ли назвать товаром продающуюся в магазине книгу, если у ее издателя нет никаких шансов возместить производственные издержки и если по крайней мере часть убытков придется взять на себя третьим лицам? Не является ли коммодификация книги всего лишь экспансивной стратегией? Нужно ли рассматривать государственную поддержку как метапотребление, когда сами поэты, а не их произведения приобретаются государством в качестве изящного украшения для национальной культуры?
Может быть, здесь более значим сам тот факт, что потребление имеет место, в связи с той мотивирующей ролью, которую оно играет, как бы смутно ее ни ощущали авторы, в процессе производства текстов, нацеленных на обмен. Именно этот факт отмечает Лора Райдинг, критикуя «растущую профессионализацию поэзии» [1]. Поэт, который пишет, ожидая, что его стихи будут опубликованы, собраны под одной обложкой и распространены посредством магазинов <…>, неизбежно оказывается включенным в товарное производство.
Для книги как товара характерен радикально иной состав и размер аудитории. И хотя теория литературы со времен Новой критики весьма преуспела в обнаружении смыслов конкретного произведения, она по-прежнему остается равнодушной к социальной специфике читательской аудитории и ее связи с производством соответствующих смыслов. Подобное равнодушие делает неуместным любое серьезное рассуждение об идеологическом компоненте поэзии, т. к. любая дискуссия сводится к вопросу о стратегии поэта или его индивидуальных предпочтениях (примером может послужить рассуждение Терри Иглтона о Джордж Элиот в книге «Критика и идеология» [2]).
Роль читателя в формировании идеологического содержания стихотворений нельзя назвать ни абстрактной, ни выходящей за пределы той области, где она поддается проверке. Это вопрос контекста, а не текста. Еще в 1929 году Валентин Волошинов писал:
Действительной реальностью языка-речи является не абстрактная система языковых форм, и не изолированное монологическое высказывание, и не
Речевое взаимодействие является, таким образом, основною реальностью языка. <…> Книга, т. е. печатное речевое выступление, также является элементом речевого общения. Оно обсуждается в непосредственном и живом диалоге, но, помимо этого, оно установлено на активное, связанное с проработкой и внутренним реплицированием, восприятие и на организованную печатную же реакцию <…> (рецензии, критические рефераты, определяющее влияние на последующие работы и пр.). Далее, такое речевое выступление неизбежно ориентируется на предшествующие выступления в той же сфере как самого автора, так и других, исходит из определенного положения научной проблемы или художественного стиля. Таким образом, печатное речевое выступление как бы вступает в идеологическую беседу большого масштаба: на
Подход Волошинова может быть противопоставлен подходу таких видных представителей Новой критики, как Рене Уэллек и Остин Уоррен, согласно которым «поэзия должна быть рассмотрена как совокупность некоторых норм, связанных отношениями структуры и лишь частично раскрывающихся в непосредственном опыте ее многочисленных читателей». Их концепция, представленная в книге «Теория литературы» (1942), последовательно уходит от любой контекстуальности:
Что есть «истинная» поэзия, где должны мы искать ее, каково ее бытие? <…> Одно из наиболее признанных и самых старых [решений] — истолкование поэзии как «продукта не природы, но человеческой деятельности», по своей природе идентичного скульптуре или живописи. Нам говорят, что литературное произведение — это строки, нанесенные чернилами на бумагу, тушью на пергамент или резцом на камень (если имеется в виду, допустим, словесное искусство Вавилона). Разумеется, подобное решение никак не может удовлетворить. Начнем с того, что существует огромная «устная литература». Известны повести и стихотворения, которые ни разу не были записаны, однако продолжают существовать. Строки, нанесенные чернилами на бумагу, — лишь метод фиксации поэзии, зарождающейся, по логике вещей, вовсе не в момент ее записи. Допустим, письмо будет предано забвению или же будут уничтожены все имеющиеся экземпляры какого-то произведения; это не значит, что исчезнет само произведение <…> Кроме того, читатель не всякое издание произведения признает истинным. Самый факт, что мы способны исправлять в читаемом тексте типографские ошибки (хотя с текстом мы знакомимся впервые), а подчас способны даже восстанавливать истинное значение текста, свидетельствует, что мы еще не считаем напечатанные строки истинной поэзией. Тем самым мы убеждаемся, что поэзия (и любое литературное произведение) может существовать независимо от своей печатной версии и что напечатанный текст содержит многочисленные элементы, которые необходимо рассматривать как внешние по отношению к самой поэзии [4].
Унаследованное от Соссюра отношение к письму как к
Такое стремление не нужно путать с диалектическим восхождением от конкретного к абстрактному, от напечатанного текста к его социальному контексту, с целью обнаружить те принципы и структуры, которые можно будет использовать на практике. Уэллек и Уоррен идеализируют текст, и это сродни фокусу с распиливанием тела, удавшемуся за счет стилистической ловкости рук (письмо — лишь записанная речь, но устная речь — лишь закавыченная литература, лишающая текст какой-либо материальной воплощенности). Подобная дематериализация производится с целью сделать возможной «непрерывность литературной традиции» и «приумножить общность произведений искусства» за счет того, что исследования различий на других уровнях перестают быть необходимыми.
<…>
Что можно сообщить посредством литературного произведения, зависит от того, в какой степени коды этого произведения очевидны для публики. Потенциальные смыслы текста актуализуются всегда лишь в соответствии с их рецепцией, а она зависит от социальных характеристик реципиентов. Произведения Кларка Кулиджа, например, могут показаться непрозрачными и отталкивающими на литературном вечере гей-сообщества: точно так же говорящий по-японски не поймет говорящего по-итальянски — у них отсутствуют общие коды, при помощи которых осуществляется перевод слов в значения. На вечере, организованном гей-сообществом, может обнаружиться несколько людей, которых, как и Кулиджа, интересует геология, бибоп, Сальвадор Дали, погода, и, может быть, даже волнуют схожие поэтические проблемы, однако не эти интересы приводят людей на подобного рода мероприятия.
Социальная специфика аудитории — наиболее важный контекст любого письма. Контекст определяет как мотивировку читателей, так и их опыт, историю, т.е. конкретный ряд используемых ими кодов. Контекст детерминирует наличное, реально-жизненное потребление литературного продукта, без которого трансляция сообщения (его формального, содержательного, идеологического аспектов) не может произойти.
<…>
«Профессиональная среда» поэтов включает в себя выходцев практически из всех экономических классов. Число тех из них, кто без сомнений может быть причислен к буржуазии, мало, и едва ли можно утверждать, что это число превышает 2%, — среднюю долю буржуазии среди всего населения США. Поэтический сегмент, характерный для любого мегаполиса и образуемый необитниками / неодада / уличными поэтами, по большей части люмпен-ориентирован. Подавляющее большинство поэтов располагается где-то посередине социального спектра. Притом, что многие из них принадлежат к традиционному рабочему классу (а концентрация классически определяемой мелкой буржуазии в этой среде, возможно, несколько выше среднеамериканской), значительная часть поэтов попадает в ту категорию, которую Никос Пуланзас в своих поздних работах определяет как «новую мелкую буржуазию»:
Здесь также играет большую роль то, что дипломы и образовательные успехи постепенно обесцениваются <…> и большое число низкооплачиваемых позиций сейчас занимают те, чья квалификация сулила им лучшее будущее. Молодые люди, чьи дипломы теряют ценность, попадают в эту группу в огромном количестве. Отсюда — различные формы скрытой безработицы, <…> нелегальные заработки, сезонное и временное трудоустройство. Такие формы скрытой безработицы характерны для всех слоев населения, в той или иной степени относящихся к пролетариату, но в этом случае они заявляют о себе с особой отчетливостью [5].
Поэты, по понятным причинам, воспринимают «скрытую безработицу» как возможность писать, что отчасти объясняет их тяготение к сфере услуг, предполагающей частичную занятость, будь то работа в книжном магазине или корректура для издательств и юридических фирм. Пуланзас также замечает следующее:
Кажется, что в последние несколько лет в большинстве капиталистических стран происходит увеличение резерва армии умственного труда, перекрывающее любые циклические закономерности [6].
Классовая модель Пуланзаса, однако, очень ограничена: работники умственного труда и сферы услуг не производят продукты и, следовательно, не имеют отношения к рабочему классу как таковому. Как бы то ни было, данное Пуланзасом описание, особенно в том, что касается практической бесполезности образования и крена в сторону частичной занятости, вполне применимо к жизни многих американских поэтов, не достигших сорокалетнего возраста.
Эрик Олин Райт, один из наиболее решительных критиков Пуланзаса, использует более комплексную модель, согласно которой рассмотренная группа все же соотносится с рабочим классом, но с заметными противоречиями в том, что касается классового самосознания. Отмечая, что более 30% экономически активных американцев к 1969 году оказались занятыми в «непроизводственном секторе умственного труда», Райт замечает:
Позиции на границе рабочего класса внутренне противоречивы, но в то же время представляют интерес для социализма. Те, кто занимает пограничные позиции такого рода, имеют привилегии, проистекающие напрямую из капиталистических отношений производства [7].
Находясь внутри этих комплексных и подчас противоречивых экономических отношений, социальная организация современных поэтов реализуется в виде двух основных структур — сообщества (network) и площадки (scene). Площадка имеет географическую привязку. Сообщество, по определению, трансгеографично. Ни одна из этих структур не существует в чистом виде. Сообщества обычно включают в себя подгруппы-площадки, в то время как многие площадки (хотя и не все) дорастают до
Для определения различий между этими структурами решающими оказываются методы коммуникации, доступные их участникам. Социология поэзии, замечая, например, что серия литературных вечеров требует значительно меньшего стартового капитала, чем издание книги или журнала, или же что непосредственное взаимодействие, имеющее место в этом случае, редко требует инициативы, сравнимой с той, что требуется для долгой переписки с незнакомым автором из отдаленного региона, склонна соотносить подобные начинания с классовыми подосновами и установками авторов и читателей — как действующих, так и потенциальных. Тем не менее, если такая социология не намерена стать жертвой технологического детерминизма, она должна ставить вопрос не только о том, какие методы коммуникации используются, но — и это более важно — о том, с какой целью они используются. Т. к. капитал, о котором поэзия умалчивает, необходим для функционирования элементов любых формаций, между сообществами и площадками возникает конкуренция. Это предполагает допущение об иерархической упорядоченности подобных групп и ведет к убежденности в том, что какая-то из них может занять доминирующую позицию — стать, хотя бы на
<…>
Американская поэзия — это зеркало борьбы, разворачивающейся, к сожалению, бессистемно и подчас индивидуалистично. Эта борьба ведется как между читателями, так и между поэтами (или, если быть точным, между социальными формациями, которые включают в себя экономические классы, но не исчерпываются ими, — классы, представители которых как читатели группируются вокруг тех или иных авторов). Это классовая борьба, и, кроме того, она ведется посредством естественных социальных механизмов поэзии. Первичный идеологический посыл поэзии — не в эксплицитном содержании стихотворения, хотя и оно может иметь политический окрас, но в отношении к рецепции, которого ожидает поэт от читателя. Именно «отношение к информации» перенимает читатель — то самое отношение, которое формирует базу для восприятия любой другой информации, необязательно литературного свойства, циркулирующей в тексте. И за пределами текста — в мире.
Примечания:
1. Riding L. T.E. Hulme, the New Barbarism, & Gertrude Stein // Contemporaries and Snobs. Cape, 1928. P. 123–199.
2. Eagleton T. Criticism and Ideology. Verso Press, 1978.
P. 110–124.
3. Волошинов В. Марксизм и философия языка. Л.: Прибой, 1929. С. 97–98.
4. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы / Пер. с англ. А. Зверева, В. Харитонова, И. Ильина. М.: Прогресс, 1978. С. 154–156.
5. Poulantzas N. Classes in Contemporary Capitalism / Tr. by D. Fernbach. Verso Press, 1978. P. 323.
6. Ibid. P. 311.
7. Wright O. Class, Crisis and the State. Verso Press, 1979.
P. 108–109.
Перевод с англ. Натальи Артемьевой
