Тимоти Кларк. Поэтика сингулярности: анти-культуралистский поворот в работах Хайдеггера, Деррида, Бланшо и позднего Гадамера
Перевод короткого введения в книгу "Поэтика сингулярности" Тимоти Кларка, американского теоретика литературы из университета Дарема. В книге Кларк занят реконструкцией определенного подхода к художественному произведению, особой поэтики, которую он называет поэтикой сингулярности и которая представлена именами Хайдеггера, Деррида, Бланшо и Гадамера. Во введении же он отграничивает эту поэтику как от закрепившихся в западной академии в 1980е-1990е "культуралистских" подходов (в этом Кларк во многом вторит Джоан Копчек (Joan Copjec) и её критике "историцизма" Фуко, см. книгу "Read My Desire…"), так и от тех изводов деконструктивистской критики, что отвернулись от реальной сложности и проблематичности деконструкции, удовольствовавшись более простыми и ходкими ответами.
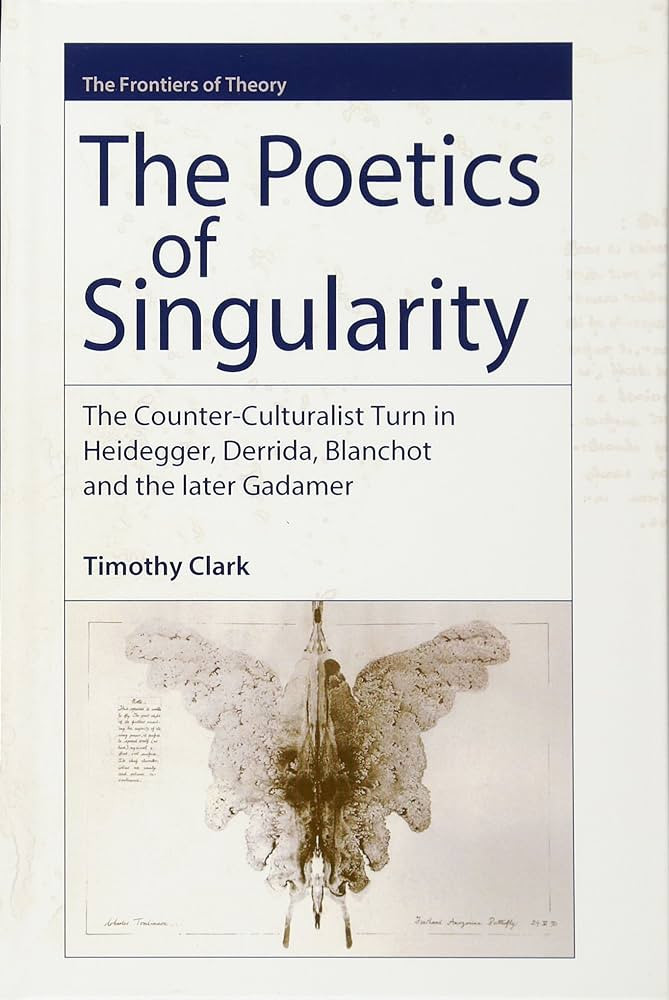
Введение: школа сингулярности?
Я начал писать поэзию потому, что поэзия мне не нравилась (Бенджамин Зефанайя)
Карта современных исследований литературы и культуры кажется такой же пёстрой, как состав ООН. Однако часто там у руля оказывается одна-единственная сила — так и гуманитарная критика, какой бы разноплановой и разобщенной она ни выглядела, не в силах скрыть тот способ мыслить, который в ней господствует и который можно описать так: позиция автора сводится к месту, которое он занимает в пространстве культуры, понятой как ещё одно измерение политики. Сказать, что литература и искусство определяются культурной средой — в этом, кажется, ничего крамольного нет; всё дело, однако, в преобладающем понимании того, что именно значит это «определяться»: понять текст тут — это значит найти ему место среди конкурирующих дискурсов его и/или нашего времени; «дискурсы» при этом понимаются инструментально как противоборствующие способы представить или сконструировать реальность, каждый из них отражает или производит определенную идентичность, которую часто понимают в терминах этничности, национальности, религии, класса или гендера. Такая критика построена на допущении: стоит однажды разобраться (cash in) с текстом таким образом, описав его в терминах культурной политики, и ничего достойного внимания в нём больше не останется.
В 1990е, когда парадигма культурной политики стала догмой, школа «деконструкции», до тех пор доминировавшая, отказалась так просто сдавать позиции, хоть ей и пришлось приспособиться к новым вызовам. Ряд теоретиков продолжали настаивать на понимании «литературного» в терминах «сингулярности», что сопротивляется концептуализации и укрощению, не позволяя подойти к тексту просто как к документу, который можно объяснить его местом в истории или политикой идентичности. Этими вопросами так или иначе задавались и раньше, но теперь они явились в новом свете, настойчивые и не терпящие отлагательств. Тогда-то и возникла мысль, теперь уже сама порядком потасканная, что литературу стоит ценить именно за то, что она не сводима к фиксированным позициям или к культурным программам. Она в силах сопротивляться как интеллектуальному догматизму, так и ретивости уверенной в своей правоте и политически заряженной критики. Она напоминает, что «произведение всегда означает — не знать, что искусство, а равно и мир, уже существуют» (Бланшо М. Пространство литературы, М.: Логос, 2002, с. 124).
Задача этой книги — не только схематизировать, но и углубить понимание термина «сингулярность», ключевого для подобного понимания поэтики.
Наиболее последовательно подобные положения отстаивал Жак Деррида, в первую очередь в эссе «Психе: изобретение Другого» (Psyche: Invention of the Other)[i] и в интервью «Этот странный институт, что зовется литературой».[1] Тем не менее, закрепляясь, мысль Деррида часто упрощалась и перерабатывалась. Так что одна из целей этой работы — сделать саму систему отсчёта более комплексной. Работы Деррида — это современный извод куда более широкой традиции понимания литературы, сложившейся в двадцатом веке; одним из важнейших импульсов к её зарождению, часто не признаваемым, стали работы Мартина Хайдеггера: его лекции 1935-6 г. г. «Исток художественного творения», впервые напечатанные в 1950 г., и его небеспроблемное прочтение немецкого романтического поэта Фридриха Гёльдерлина. Деррида движут те же интуиции, что можно обнаружить у Хайдеггера, Мориса Бланшо и, как это ни удивительно, в поздних эссе Ханса-Георга Гадамера. Выходит так, что размышления о поэтике сингулярности у этих и других мыслителей составляют собственную, отчетливую, локализуемую, но едва ли признанную, традицию в изучении поэтики, какой она сложилась в двадцатом и двадцать первом веке. Хотя имена и кажутся знакомыми, ошибкой было бы считать, что эту традицию выйдет подвести под какой-либо уже знакомый «подход». В учебниках по теории литературы и культуры её искать не надо. Цель этой книги — описать эту поэтику, предложив схематичный набросок её логики и основных концептов, какими они представлены у четырех близких друг к другу мыслителей. Другая её задача: противопоставить такой способ мыслить — тем самым доказав его особую весомость — некоторым из тех повсеместных допущений современной критики, которые, как показано в первой главе, порой являются просто американской национальной спесью, которую отказываются признать.
Многие из лучших работ по литературе из ранних 1990х кладут понятие «сингулярность» во главу угла; при этом сам флёр слова как будто должен порой оправдать построения, возводимые на его основе. Вот только некоторые из них: «Чёрные дыры» (Black Holes) Дж. Хиллиса Миллера (чёрные дыры в физике понимают как «сингулярности», то есть как объекты, перед которыми науки о природе слагают с себя полномочия), а также тексты Изабель Армстронг, Тилоттама Раджана, Пегги Камуф, Самюэля Вебера и Дерека Аттриджа. Так, недавняя книга Аттриджа, «Сингулярность литературы» (The Singularity of Literature) (2004) представляет собой, по сути, резюме дерридианского подхода к проблеме.[ii] Сингулярность обозначает особый статус текста или другого произведения, который призван подчеркнуть: текст не даёт просто описать себя с помощью общих категорий или понятий. Это сопротивление можно понять и как размывание границ между сферой того, что поддаётся концептуализации и что можно подчинить мысли, и миром страстей, контролировать которые куда сложней. В своём недавнем эссе Дерек Аттридж описывает «сингулярность» именно в её отношении к «не-дискурсивному, не-рациональному потенциалу в языке и значении».[iii] Ставки такого рода аргументации были обозначены ещё раньше. Так, в статье «Translatio и компаративное литературоведение» Билл Ридингс определяет литературную сингулярность в первую очередь по тому, что она бросает вызов и сопротивляется универсализирующим нарративам (понятым в духе Лиотара): историям о прогрессе европейского духа, об исторических противостояниях как о желании свободы, или, и это уместней всего упомянуть, ныне главенствующему
модернистскому проекту политической критики, универсальному языку политических значений, на который можно перевести что угодно, уяснив тем самым его значимость. Политическое объявляется тем последним пределом, на котором только и образуется смысл — в этом мне видится опасность того политического сознания, которое характерно для современной критики.[iv]
Работы эти разнообразны и взывают к ответу. Тем не менее, общее для них понимание «литературного» вывести всё же можно: «литературное» тут коренным образом отличается от той «формалистской» обособленности, к которой некоторые желали бы его свести; сингулярный характер литературы, напротив, состоит не просто в сопротивлении, но в активной критике тех обобщающих контекстов или категорий, которые порой стараются заключить текст в себя.[v] Литература может быть сингулярной как дискурс, который, хотя он и основан на определенных конвенциях и правилах, нельзя понять, обращаясь к некой уже готовой лингвистической или культурной норме. Литературу зато можно понять как «событие», то есть как нечто, что одной теорией не покрывается и чьё действие нужно прослеживать отдельно (слово за словом, строка за строкой, вслед за тем, как разворачивается текст). Порой литературному тексту под силу трансформировать те привычки понимания, которые и позволил его вообще прочесть.
Всё это — важнейшие составляющие того определения «сингулярности», которого я придерживаюсь в этой книги. Однако мой первоочередной интерес, наряду с желанием вписать эту поэтику в более широкое поле, главную роль в котором играет Хайдеггер, — это та подспудная анти-детерминистская, бес-причинная сила событийности и необъяснимости — нечто из ничего,[vi] — которая задействована в мысли о сингулярности. Ни одно мышление и ни одна концепция не поспеют за этой силой, этим отказом от готовых категорий, если сами в процессе не будут меняться, влияя на то, что в итоге будет значить «понять текст». Другими словами, «сингулярность», может подразумевать своего рода бес-причинный разрыв. Этот разрыв по-своему продумывают Хайдеггер, Гадамер, Бланшо, Нанси и Деррида, но у каждого он обозначает нечто, что по определению нельзя предугадать или объективировать. Что становится важным при чтении литературного текста, сколь бы ненавязчиво это не происходило, это потенция возможного разрыва, это осознание: понять текст, смиренно играя по его правилам — это не значит постепенно это самое понимание накапливать, это значит — совершить прыжок. Иначе говоря, такое «понимание» (если это слово всё ещё уместно) — это не просто небольшая перелицовка или шлифовка сознания или идентичности — те же на входе и на выходе, изменения им заказаны, — но становление-иным этого самого сознания, скромное ли, значительное. Поэтому-то в поэтике сингулярности и неизбежен момент анти-интеллектуализма: чтение как просто накопление идей и образов — не истинное чтение, если смотреть на него из перспективы подобной экзистенциальной вовлеченности.
Этот момент разрыва, или прыжка, во всех тех формах, в каких он явлен у Хайдеггера и других, можно соотнести с тем, что Ханна Арендт называет «началом» (а когда речь идёт о людях, «рождением», «натальностью»).[vii] Это неустранимый и не поддающийся расчёту элемент свободы в человеческом существовании (возможно, составляющий его суть); его воплощение в политике, в самой крайней его форме, это зияние, головокружительный момент свершившейся революции. Само собой, в этом пространстве неуютно, там небезопасно, и часто всё меняется за миг: ведь ситуация, в которой на кону установление новых норм — это такое пространство, где не действуют привычные законы и где поэтому приходится доверяться, не доверяя. Вот что пишет Арендт:
Эта произвольность заложена в самой природе начала. Оно находится не только вне логики причинных связей, цепочек, в которых каждое следствие само тут же становится причиной для новых следствий, оно вообще не имеет ничего, за что можно было бы ухватиться; дело выглядит так, будто оно явилось ниоткуда — как во времени, так и в пространстве. Так, словно на миг, миг начала, начинатель отменил само время, или если бы актеры внезапно выпали из непрерывного временного потока.[viii]
Арендтовская «натальность» тесно связана с темой человеческой смертности, к которой обращались Хайдеггер, Гадамер, Бланшо и Деррида. Человеческая жизнь имеет границы: человек определен тем, что однажды он родился и однажды умрёт. Хайдеггер и другие, как это повелось, увязывают эту конечность в первую очередь с проблемой смерти. Однако же я уверен, что созвучное понятие натальности — сам факт рождения, явления всё новых людей — позволит чётче прозвучать всему тому ценному, что можно найти в работах этих четырёх мужчин («событие», «поэтика», «удивление»).
Снова заводя разговор об установлении идеи «сингулярности» в работах 1990х и позже, можно процитировать Дж. Хиллиса Миллера, который резюмирует:
Литературные исследования скрадывают особые свойства литературного языка: они пытаются наделить его определенностью, натурализовать и нейтрализовать, сделать его узнаваемым. Обычно это выливается в представление о том, что язык так или иначе отражает реальный мир. Это наделение определенностью может принимать разные формы: текст могут увязать с его автором, попытаться показать, что он типичен для своего исторического времени и места, что в нём нашли выражение авторские класс, гендер или раса, могут посчитать, что в нём оказался запечатлен материальный и социальный мир, или прибегнуть к неоправданным обобщениям о том, как этот самый язык устроен; невысказанная цель во всех случаях одна и та же: унять сознательный или бессознательный страх перед истинной парадоксальностью литературы.[ix]
Эта цитата из Миллера помогает понять, как можно определить нечто сингулярное в поэзии и литературе в противовес набравшему силы культурализму, чей основной принцип можно определить так: всё, что составляет текст и относится к нему, рассматривается не как сингулярное, но как характерное (как эпизод в культурном процессе, понятом как борьба притязающих каждая на своё идентичностей). Однако же поэтическое нельзя понять, сведя его к чему-то, что якобы составляет его основу (к отражению реальности и тому подобному), ведь оно само диктует себе правила: «Поэзия — это неизбывная уникальность языка (Пауль Целан)».[x] Впрочем, тут же возникает опасность, что «сингулярное» будет понято просто как «странность» текста, вызывающая слабую ажитацию у профессиональных исследователей, в чьих спорах её драме и суждено будет затеряться. Меж тем «сингулярность», напротив, позволяет обратиться к «этическим» вопросам и поставить их более чётко. Этим занят, например, Жан-Люк Нанси: он по-новому формулирует понятия свободы и сообщества, изымая их из привычного употребления, в котором они действовали как усредняющие категории — в такой своей роли они предписывали, какими должны быть человек или сообщество, исходя из их предполагаемой природы или якобы присущих им качеств.[xi]
Многие из тех, кто в 1990е обращался к теме сингулярности литературы, многое заимствовали, не скрывая этого, у Деррида; однако также они вдохновлялись и более традиционной, более влиятельной, узловой работой, а именно кантовской защитой эстетики. Без упоминания «Критики способности суждения» (1790)[xii] обойтись не выйдет, ведь современные апологии литературной сингулярности часто заявляют о себе как о радикализации кантовской «рефлектирующей способности суждения», образцовым примером которой и является эстетика. «Рефлектирующая» способность суждения оказывается задействована, когда нам явлена определенная вещь или вещи, но у нас не хватает понятия или концепта, чтобы описать их — скажем, у нас есть некий x, но мы не можем подобрать для него подходящее понятие, которое бы его объяснило. Так что, в отличие от определяющей способности суждения, когда у нас есть вещь и понятие, под которое её можно подвести (например: «это насекомое — вид жука»), наше суждение не может оперировать уже готовым определением (этот x есть частный случай…), но вынуждено безостановочно его подыскивать.
Литературу и можно определить как такое открытое, не предустановленное отношение сингулярного к общему. Чарльз Диккенс, например, обращается к основополагающим темам — природа общества, справедливости, знания, — но делает он это, вводя крайне своеобразных персонажей, создавая уникальные ситуации и образы (Вакфорд Сквирс, Бетси Тротвуд, Джарндисы и их судебная тяжба и т. д.) Такого рода письмо — это, безусловно повод для автора поразмышлять — тут можно встретить мысли по поводу, скажем, образования, закона и положения женщины в Викторианской Британии, и всё это на должном уровне обобщений, так, чтобы исследователям было чем заняться и что каждый раз поместить в Studies Annual. Однако все эти размышления накрепко связаны с этими вот конкретными случаям — последние нельзя просто использовать, чтобы что-то донести и доказать, не утеряв при этом чего-нибудь по пути. Напряжение между умопостигаемым/концептуальным, тем, что поддается обобщению, и уникальным и непрозрачным никогда не разрешится, и в случае литературы так было всегда. По словам Родольфа Гаше, «если литературное мышление, которое неотделимо от универсализации, так сильно зависит от уникального и сингулярного, это мышление, не в силах опереться на некую последнюю истину, обречено полагаться на то, что ему же противоречит».[xiii] Например, почти невозможно точно установить, не впадая в противоречия и не прибегая к двусмысленностям, что же именно хочет сказать Диккенс о положении женщины, вводя такого персонажа как Бетси Тротвуд, даже если предположить — чего так просто не сделаешь, — что только об этом тут разговор и идёт.
Для Канта сила поэтического или литературного текста как раз и заключалась в его способности выражать подобные неопределенные квази-понятия. Кант иллюстрирует эту способность примером Юпитера, изображенного в виде орла. Зритель, указывает он, что-то да угадывает в этом образе — он точно не бессмыслен, это не какая-то нелепица. Он, образ, неразрешим, но на это и расчёт, на этом всё и держится. Этот образ обращается к чувственному воображению и в то же время выражает различные понятия (власть, опасность, красота, восхищение…), но ни одно из них напрямую:
Так, орел Юпитера с молнией в когтях — атрибут могущественного владыки неба, а павлины — прекрасной владычицы неба. Эти атрибуты не представляют, подобно логическим атрибутам, то, что заключено в наших понятиях о возвышенности и величии творения, они отражают нечто другое, что дает воображению повод распространиться на множество родственных понятий, которые позволяют мыслить большее, чем может быть выражено в понятии, определенном словами; они дают эстетическую идею, которая служит идее разума вместо логического изображения, в сущности же для того, чтобы оживить душу, открывая ей необозримую область родственных представлений (Кант И. Критика способности суждения, М.: Искусство, 1994, с. 189).
Что важно в «эстетической идее», так это то, что точный «смысл» образа, отрывка или текста передать нельзя. Возникающие коннотации нельзя отделить от той конкретной, сингулярной работы, в которой только они и обретают значение. Салим Кериф приводит показательный пример: он вспоминает коварно оброненный платок, который должен убедить Отелло в том, что жена ему не верна. Этот платок обретает значение только в рамках самой пьесы: «Так использовать платок — не значит предписать ему значение за пределами пьесы, ведь другие писатели в своих произведениях могут использовать его совершенно иначе».[xiv] Кроме того, платок или образ Юпитера провоцируют в читателе или зрителе ряд ассоциаций, чувственных образов и понятий, чья игра не сводится к простой их сумме или перифразу. Неразрешимость всего того, что как будто подразумевается (и что Кант называл, следуя за принятым языком, «ассоциацией идей»), по-своему последовательна, даже в своей неопределенности. В начале XIX века Фридрих Шлейермахер описал эту ситуацию так: «Искусством мы называем […] произведение, о чьих общих законах мы осведомлены, но чьё конкретное воплощение под эти самые законы обратно уже не подвести».[xv]
Такой взгляд на вещи сильно повлиял на развитие определенной части литературной теории, хотя на самого Канта ссылались не так часто. Сам же Кант развивает идею о сингулярности таким образом, что приходит к хорошо всем известной идеализации эстетики.[xvi] Современная «деконструктивистская» критика, однако, отвергает подобные идеалистические подпорки; для неё эстетика остается областью сингулярного — областью частных случаев, которые значат больше себя самих, но которые нельзя понять или определить через отождествление их с чем-либо по какому-либо правилу.[xvii] Тем не менее тот факт, что сингулярная форма или образ, на что обращает внимание Кант, представляют собой нечто уникальное, незаместимое, забывался, уступая место противостоянию со всей областью, где происходит обобщение и подведение, в целом. Из-за этого литература стала восприниматься как пространство таких сущностей, чей модус бытия — вопрос, любой ответ на который будет половинчатым; стало заманчиво рассматривать её как площадку для открытых дебатов, на которой нет места догматизму. Так, Изабель Армстронг, обращаясь к психоаналитическому концепту переходного объекта, формулирует подобное понимание литературы как «интрасубъективного пространства, в котором смыслы ставятся под сомнение».[xviii]
Впрочем, защищать литературу и поэзию как-то, что ускользает от присвоения критиком — не обязательно самая дальновидная стратегия. Нельзя без умолку болтать о странности литературы, которую ничем не ухватишь, не оставив при этом впечатления, что сказать-то тебе и нечего. Главная проблема заключается в том, что само по себе «сингулярное» — понятие пустое и относительное. В каком-то смысле всё «сингулярно», даже пятнышки на столе или мушиные внутренности. Сказать о чём-то, что оно «сингулярно» — это значит просто зафиксировать факт, это всё равно, что не сказать ничего. Для Канта, напротив того, рефлектирующая способность суждения, идёт ли речь об искусстве или о чём-то ещё, всё ещё получала своё значение, только когда он допускал наличие у природы и у человеческого существования смысла — то есть, благодаря той метафизике, перенять которую современные мыслители не готовы.[xix] Без подобного рода обрамления литературная или эстетическая сингулярность может свестись к банальному отрицанию. Слишком уж многие выступления в защиту литературы как сингулярного ограничиваются тем, что подчеркивают нашу неспособность свести всё к одному-единственному смыслу, а затем представляют эту неспособность, это сопротивление текста как некий обтекаемый демократический вызов доктринерству. Так что «сингулярность», если мы хотим отдать ей должное, нужно понимать не просто как «литературу, пока её не удается ухватить», а как нечто более радикальное. Её нужно отличить от тех положений, к которым так называемый «деконструкционизм» сводили начиная с 1970х: к заявлениям о том, например, что, раз мы не можем подвести под текстом черту, дать ему некое (невозможное) окончательное прочтение, подвести его под универсальное определение — раз так, то ни одна интерпретация, из какого бы контекста и кем бы она не была дана, не покроет собой весь текст, а значит на плечи каждому читателю ложится задача по бесконечному перечитыванию… и так далее, и всё это очень часто произносится в тоне чего-то среднего между мелодрамой и выступлением фокусника, чьи трюки уже слишком хорошо известны; под всеми этими заявлениями угадывается та культура критики, которая заставляет каждого, кто её разделяет, видеть в себе звезду интеллектуальной сцены. Такого рода положения следовало бы счесть трюизмами, они должны быть первыми шагами в размышлении, но никак не выводами из него.
То, что под «сингулярностью» имеют в виду мыслители, к которым обращается эта книга, носит утвердительный характер. Вызов сингулярности — это та причудливая экономия языка, который, кажется, за ничто одаривает всем, в один афоризм умещает немыслимое, намекает на многое, не ходя вокруг да около, и который может оказаться единственным выражением невыразимого чувства. Деррида, например, отдаёт должное тому, что Хайдеггеру есть сказать по поводу «несводимости напева и консонанса в поэзии» (Gesang)», о «не-семантическом, не-заменимом характере буквы, одним словом, о том, что нужно выучить наизусть» (Derrida J. Points: Interviews 1974-1994, Stanford, CA: Stanford University Press, 1992, p. 314).[2] Таким образом, сингулярность, о которой тут идёт речь, — это не просто способ доказать, через отрицание, что литература сопротивляется смыслу. Напротив того, сингулярное, как бы к нему не относились, — это, буквально, незаместимое.
Суждение, запутавшееся само в себе, имеющее дело с объектом, который вот-вот, так вечно кажется, удастся ухватить — не такую картину следовало бы представлять, когда мы думаем о литературе и поэзии. В таком взгляде на вещи слишком много от веры в силу познания, в нём сказывается зацикленность на умудренном восприятии профессионального интерпретатора. В противовес такому подходу эта книга стремится описать то, что можно назвать «пост-экзистенциальной» установкой, которую можно выявить у четырех представленных здесь мыслителей.[xx] То, о чём идёт речь, это не какая-то вечно возобновляемая игра в Дилемму Интерпретатора, но нечто сродни пространству экзистенциального риска, каким бы приглушенным он не был; речь идёт о тех анти-интеллектуалистских положениях, которые не примирить с допущениями преобладающей сегодня культуры профессиональной критики. Тот прыжок, устанавливающий разрыв, который соприроден самой идее сингулярности, вызывает к жизни, пускай и часто путями ненадежными и неприметными, «начало», о котором писала Арендт. Другими словами, интерес тут вызывает что-то прямо противоположное тому неокантианскому постулату, который разделяет большая часть современной мысли (и аналитическая, и «пост-модернистская») и который гласит: нам не доступно ничего, что не было бы уже интерпретацией, производным от нашего подхода к делу, мы впечатаны в наши культурные представления, как бы они не назывались — «идеологией» или «тюрьмой языка», — и не в наших силах их оставить.
Это короткое введение можно на этом завершить. Впрочем, есть ещё одна важная мысль, которая может стать эпиграфом ко всем будущим главам.
Прочесть текст сам по себе, следуя его собственным законам, как сингулярный — это ли не азбучные истины? — не делать из него иллюстрацию к социальным и культурным процессам, к положениям теории какой-либо поэтики, но просто воспринять его таким, какой он есть, ничего не привнося. Смысл не в том, чтобы дать интерпретацию его сингулярности, а в том, чтобы двигаться к недостижимой точке, в которой текст оказывается прочитан исключительно на собственных уникальных условиях. То есть, прочтение создаёт такое пространство, в котором текст предъявляет себя столь специфично, что чувствуется: к какому бы способу интерпретации мы ни обратились, он будет тексту не адекватен. Сингулярность в таком случае — это и особый род требования, и перформативный акт; в идеале она сама предписывает ту рамку, в которой она может возникнуть, и принуждает читателя к свое рода обращению вспять, указывая, что достичь текста он может, только отставив в сторону уже знакомые подходы. Сингулярность становится не просто чем-то, что можно помыслить, но тем, чему нужно дать помыслить — на собственных основаниях, внутри того пространства, которое читатель старается удержать открытым. Идеал этот обещает некую согласованность (irenic) [читателя с текстом], он, возможно утопичен. Однако же все четыре мыслителя, о которых пойдет речь, позволяют явиться мысли, неповторимой и многогранной, которая сопряжена с продумыванием этой простой, невозможной, как ни крути, но волнующей идеи.
Костяк этой книги составили четыре главы, каждая из которых посвящена в основном одному из четырех мыслителей и тому, как они осмысляли идею сингулярности. Прежде чем приступить, однако, потребуется ещё одна глава, которая даст понять, в чём состоит смысл ставки на «поэтику сингулярности», сравнив её с другими элементами современной критики, понятой как институция.
[1] Деррида, Ж. Этот странные институт, что зовётся литературой. URL: https://syg.ma/@noodletranslate/zhak-dierrida-etot-strannyi-institut-chto-zovietsia-litieraturoi — прим. пер.
[2] Требование, или мечта, «выучить наизусть» — это то, что сам Деррида рассматривает как составную часть поэзии в эссе «Что такое поэзия?», которое в сборнике и предпослано цитируемому интервью. — прим. пер.
[i] 'Psyche: Invention of the Other', trans. Catherine Porter, in Reading De Man Reading, eds Lindsay Waters and Wlad Godzich (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1989), pp. 25-65.
[ii] J. Hillis Miller, Black Holes (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999); Tilottama Rajan, 'In the Wake of Cultural Studies: Globalization, Theory, and the University', Diacritics, 31 (Fall2001), pp. 67-88; Peggy Kamuf, The Division of Literature: Or the University in Deconstruction (Chicago: University of Chicago Press, 1997); Isobel Armstrong, The Radical Aesthetic (Oxford: Blackwell, 2000); Samuel Weber, 'Ambivalence: The Humanities and the Study of Literature', in Institution and Interpretation (Minneapolis, MN: University of Minnesota, 1987), pp. 132-52. The term singularity has come explicitly to the fore in Derrida’s work since the mid-1980s, and has become the focus of studies on Derrida such as Marian Hobson, Jacques Derrida: Opening Lines (London: Routledge, 1998), esp. pp. 107-46; Joseph Kronick, 'Between Act and Archive: Literature in the Nuclear Age', in Future Crossings: Literature between Philosophy and Cultural Studies, eds Krzysztof Ziarek and Seamus Deane (Evanston, IL: Northwestern University Press, 2000), pp. 52-75; Derek Attridge, The Singularity of Literature (London: Routledge, 2004).
Полезная дискуссия, также захватывающая многие другие области, содержится в Culture Machine, 6 (2004) 'Deconstruction is/in Cultural Studies', eds Gary Hall, Dave Boothroyd and Joanna Zylinska (https://culturemachine.net/deconstruction-is-in-cultural-studies/) (ссылка обновлена, так как указанная в оригинале больше не действует — прим. пер.)
[iii] Derek Attridge, 'Singular Events: Literature, Invention, and Performance', in The Question of Literature, ed. Elizabeth Beaumont Bissell (Manchester: Manchester University Press, 2002), pp. 48-65, at p. 49.
[iv] Bill Readings, 'Translatio and Comparative Literature: The Terror of European Humanism', Surfaces, 1.11 (1991): 19 pp., at p. 14 (ссылка на статью, помещенная в оригинале, больше не доступна, но сама статья легко находится сразу в .pdf — прим. пер.)
[v] По поводу заезженного сближения такого рода «деконструктивистских» работ с «новым критицизмом» можно прочесть в предисловии к книге Деррида «Without Alibi» (p.20), написанном Пегги Камуф (Peggy Kamuf).
[vi] Аттридж предлагает доходчивое и обстоятельное обобщение дерридианских концептов литературы, новшества и сингулярности. Доступность его аргументации — следствие того, что к этим проблемам он подходит с точки зрения более общей феноменологии чтения, не рискуя обращаться к более фундаментальным вопросам из философии и других областей (природа языка, институций, социальности и «метафизики»). Цена такой стратегии — это то, что порой текст превращается в переложение общих мест. Например: «Какой бы момент в истории культуры мы ни взяли, некоторые произведения прошлого всё ещё задевают внимательного читателя силой своей новизны, в то время как другие, столь же изобретательные для своего времени, не вызывают отклика» (p. 46).
Аттридж понимает сингулярность, присущую каждому человеку, в терминах того, что он называет «идиокультурой», понимая под этим то, что любой из нас — это продукт неповторимой комбинации культурных и социальных факторов. В таком случае воздействие, которое на меня в моей сингулярности может оказать текст — это результат, не предугадываемый и способный удивить, игры этих идиокультур. Тем не менее, в отрыве от того пост-экзистенциального мышления, ключевого для работ Деррида, понятие «идиокультуры» как будто бы просто сводится к эмпирической достоверной/социальной сфере, продуктом и коррелятом которой (пускай и не предугадываемым) оно оказывается. В таком виде оно имеет мало общего с радикальностью того мышления, примеры которого явили Хайдеггер, Бланшо, Деррида, Арендт и другие, что постулирует абсолютную безосновность человеческой свободы. Вот что, например, пишет Дана Р. Вилла (Dana R. Villa) по поводу «натальности» у Арендт: «Попытка помыслить свободу как разлитую в мире, но ничего ему не предписывающую (in a nonsovereign worldly form), скорее как «модус бытия», а не как способность субъекта, наталкивается не только на нашу привычку сводить свободу к волению, но и ещё и на нежелание принять идею об «абсолютном» начале» (Arendt and Heidegger: The Fate of the Political (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), p. 118).
[vii] Концепция Арендт, без сомнения, находится под влиянием Хайдеггера и Кьеркегора, но она также имеет отношение к гораздо более ранним спорам, которые вели святой Августин и Дунс Скот, об основах человеческой свободы (“Из всех рассмотренных нами философов и теологов один только Дунс Скот был готов уплатить цену контингенции за дар свободы — ментальный талант начинать новое, которым мы обладаем и которого, как мы теперь понимаем, вполне могло и не быть (Арендт Х. Жизнь ума, СПб: Наука, 2013, с. 413)). См. также Арендт Х. Vita activa… СПб: Алетейя, 2000, с. 229-232).
[viii] Арендт Х. О революции, М.: «Европа», 2011, с. 285-86).
[ix] J. Hillis Miller, On Literature, Thinking in Action (London: Routledge, 2002), p. 33.
[x] Цитата даётся по John Felstiner, 'Translating Celan’s Last Poem', American Poetry Review, July-August (1982), pp. 21-7, на p. 22.
[xi] Ссылки на работы Нанси, посвященные свободе (The Experience of Freedom, trans. Bridget McDonald (Stanford, CA: Stanford University Press, 1988)), всё чаще встречаются в недавних апологиях литературы. См., например, эссе Раджана, упомянутое выше, а также эссе Райнгарды Нетерсоль (Reingard Nethersole) в том же выпуске: ‘The Priceless Interval: Theory in the Global Interstice', Diacritics, 31 (Fall 2001), pp. 30-6.
[xii] Самуэль Вебер и Дерек Аттридж в своих текстах о сингулярности в открытую признают, что обязаны Канту многим.
[xiii] 'The Felicities of Paradox: Blanchot on the Null-Space of Literature', in Maurice Blanchot: The Demand of Writing, ed. Carolyn Bailey Gill (London: Routledge, 1996), pp. 34-69, на p. 37.
[xiv] Salim Kemal, Kant’s Aesthetic Theory: An Introduction, 2nd edn (Basingstoke: Macmillan, 1997), pp. 45-6.
[xv] Цитируется по Andrew Bowie, From Romanticism to Critical Theory: The Philosophy of German Literary Theory (London: Routledge, 1997), p. 111.
[xvi] В поэзии Кант ценит её экспрессивную силу, то, что она побуждает к работе разнообразные ментальные способности, которые подвергают испытанию возможные, но всё же неопределенные понятия, этой самой поэзией вызванные к жизни. Другими словами, отказ искусства ограничиться однозначным и определенным смыслом, который можно было бы уложить в понятия, лишь выводит на первый план саму способность к пониманию, которая обычно воспринимается как должное. Таким образом для Канта сингулярность выдающегося произведения искусства оказывается примирена с нашим до-когнитивным ощущением порядка и гармонии.
[xvii] Присутствие Канта особенно ощутимо у тех исследователей, которые, вслед за Жаном-Франсу Лиотаром и его прочтением кантовской третьей критики, понимали сингулярность литературы как нечто, открывающее пространство для рефлексии. См., например, Judging Lyotard, ed. Andrew Benjamin (London: Routledge, 1992) и размышления Жиля Делеза по поводу искусства, в первую очередь по поводу кино, которое отделяет аффекты и перцепты от понятий (концептов), превращая эту разъятость в плодотворный хиазм, и является вызовом способности суждения и её стремлению всему дать имя и прийти к чему-то конкретному (см. Claire Colebrook, Gilles Deleuze (London: London, 2001), pp. 15 ff.).
[xviii] Isobel Armstrong, The Radical Aesthetic, p. 39.
[xix] Чтобы ознакомиться с другим взглядом на кантовское наследие, стоит обратиться к работе Рудольфа А. Маккееля (Rudolf A. Makkeel), в которой он выступает против «широко распространенной убежденности, что герменевтика должна переступить через свое трансцедентальное наследство» ('The Hermeneutical Relevance of Kant’s Critique of Judgement', in Maps and Mirrors: Topologies of Art and Politics (Evanston, IL: Northwestern University Press, 2001), pp. 68-82, на p. 80).
[xx] Именно эти пост-экзистенциальные интуиции замещают, так сказать, кантовскую спекулятивную метафизику, которая и позволила наделить понятие сингулярности позитивным содержанием, не дав свести его просто к формальной неразрешимости.
