Заметки к «Структуре мировой истории» Кодзина Каратани. Введение.
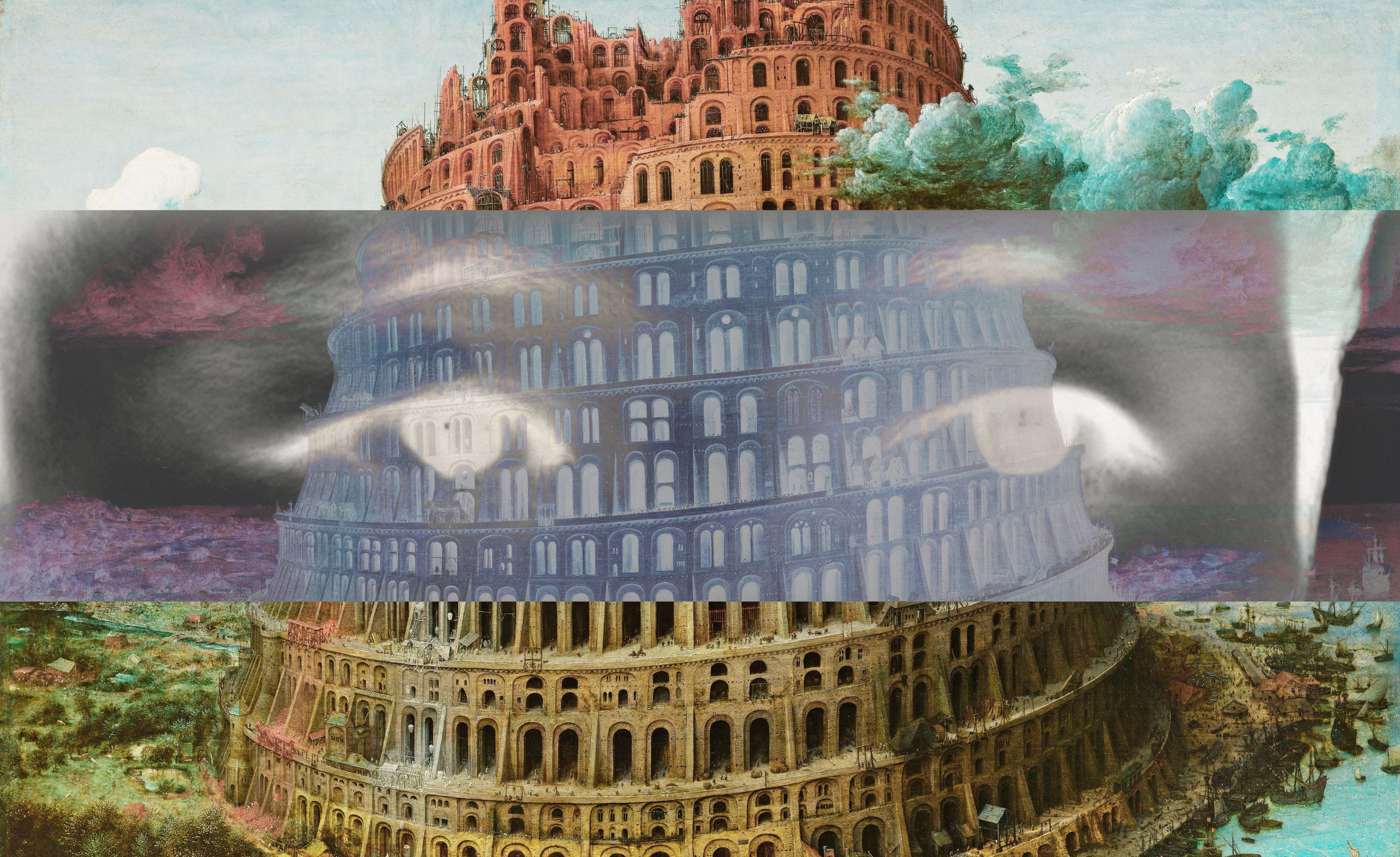
I. О Мировой республике как Партии
В марте этого года на одной из секций «Векторов» Антон Сюткин выступил с уже успевшей стать традиционной жижекианской критикой современного левого движения и, в частности, такого явления как пост-марксизм. Сильно нового Сюткин ничего не добавил, однако, как мы знаем, повторение как таковое уже включает в себя различие, выражаемое через изначальную нехватку в утверждении. Засим послушать «хорошо забытое старое» оказывается делом не просто приятным, но, что ни странно, также полезным. Начал Сюткин несколько издалека, вспомнив политическую смуту в царской России после 1905-го года, Энгельса, Плеханова, марксистские метаморфозы теории и классический раздор меж двух позиций: где должна делаться Политика: в или же вне политики? (Сразу забегая наперёд, намекну, что сегодняшнее поле политического нигилизма почти точь-в-точь повторяет глубинную проблематику, свойственную нашему миру уже тогда: разрыв между двумя позициями заведомо-заранее аннигилируется, ибо по определению он уже является якобы-включённым в одну из позиций. Как не трудно догадаться, в позицию (бытия-)вне-политики. Что это означает, так это то, что никакого радикального разрыва, как уже было обозначено и не происходит: в-политике приравнивается к вне-политике почти что с догматической серьёзностью, и то, к чему мы приходим, оказывается атомистическая позиция «либерального общества», в котором свобода предполагается свободой как таковой, от самой себя, формы от содержания, отчего формальная свобода индивида становится важнее свободы личности и, по Берарди, автономия подменяется идентичностью.) Ленин же, как истинно историческая фигура, возникает на горизонте как та, что предлагает не просто третий путь, но, в идеале, реальный второй путь, выходящий за рамки пустой удовлетворённости кастрированными противоположностями, учитывающий изначальный онтологический зазор. Возвращаясь к Жижеку, речь здесь заходит о параллаксной позиции, что по определению уже оказывается параллаксом параллакса, зазором зазора, где наличествует зазор в собственной двойственности: не только между самим собой и парой противоречий, но и на уровне феноменов, отчего каждая позиция, включая/не включая в себя изначальный разрыв, неизбежно претендует на целостность Единого.
Это всё, однако, момент уже довольно успевший всем набить оскомину. Куда интереснее другое. Когда речь зашла о Лукаче, идеологе ленинизма, зацепила лично моё внимание, что удивительно, крайне очевидная ремарка о том, что Лукач, следуя оптимистично-наивному идеалистическому материализму Энгельса, утверждавшему Идеал в Природе[1], лишает ленинизм (как прикладной марксизм в условиях надломленной материи, полной противоречий между противоречиями) конфликта как такового, можно сказать, «повторяет» ошибку того «материализма» («политическая реальность» в России до февраля 1917-го), что отождествляет позицию симметрии и асимметрии власти, придаёт им позитивную сущность. Перефразировав то, как ёмко выражает это Сюткин: «То, к чему мы приходим, оказывается вульгарное тождество между Природой и Партией. Величие Природы становится поводом для обожествления Партии как таковой». Что здесь поражает, так это то осознание, что, несмотря на кажущийся разрыв (и, можно было бы сказать, порыв) с «романтическим неокантианством», каковым Лукач увлекался в молодости, то, что мы видим, есть абсолютно кантианская позиция. Так, в первой критике Кант прямо указывает на то, что Природа служит тем нечто, что, по сути, есть своё начало как феномена: Природа есть, Она живёт, существует, однако эта жизнь возможна исключительно в рамках классических кантианских категорий, что утверждают саму возможность жизни до жизни как таковой. Парадокс полностью раскрывается лишь в третьей критике, когда, исходя из тех же категориальных ограничений (Хуэй называет такой подход механистическим, когда целое, по сути, подчиняется частному: всё целое Природы оказывается целым лишь при условии наличия непредвзятого источника гармонии извне, при условии разума, что холодно и непритязательно вычленяет из самой Природы принципы её единства и порядка-упорядочивания), Кант приходит к выводу, что Природа есть непросто своё начало как феномена, но и есть само начало как феномен. Иными словами, высшим принципом систематизации становится органический, и Природа есть Бог, что как порождает сам себя, так и порождает своё явление, так и, завершая цепь короткого замыкания, порождает сам себя как явление, отчего само порождение становится явлением. Разумеется, стоит отметить, что явление это дано лишь нам, простым смертным, тогда как для Природы явлений нет. Она уже является сама для себя, устраняя при этом минимальное различие в собственном явлении себе. Стазис явлений обусловлен конкретной автономией самой Природы, Её самоорганизацией, отчего основание существования и само существование (говоря языком подобным тому, что использует Шеллинга) заведомо уже-безразличны. Дерево воспроизводит не только себя, но свой род. Дереву чужда личность и сущность в привычном субъектном понимании, однако куда более глобально — дереву чужда проблема свободы, которая исключается за счёт того, что дереву понятна цель Природы. Цель Природы есть Она сама как дерево и как целостная система (органической рекурсии).
Как тогда человеку понять эту цель? Может ли он её понять? Человек должен уметь найти общий язык с Природой. Как он звучит? Как будет выглядеть? Язык Природы, подобно Ей самой, недоступен человеку, и от трансцедентального человек приходит к трансцендентному. То, что начинается как механистическая логика, приходит к органической, к замыканию на самом себе, на выход за пределы себя. Разум нужен, чтобы в конечном итоге понять, что только через приход к нему нам откроется его вторичность. От объективной реальности — к надреальным суждениям, которые чужды любой критике, ибо преодолевают её. Говоря проще, парадокс Бога, когда мы смотрим на мир недоступными нам глазами Бога, есть не ошибкой Канта, но логикой самого разума, требующего собственную трансгрессию. Лукач, поразительным образом, эту цель (Природы как природную цель разума) отвергает за счёт того, что читает Канта прямолинейно: то, как Природа себя являет (эстетика), есть, исходя из принципа органичности, самой Её структурой, самим Её Благом (этикой). Упускается лишь вывод Канта, что истинно справедливая форма правления будет подобна Природе за счёт выхода разума за собственные пределы категорий. Методика Лукача механистична, отчего, разумеется, разум становится чужд самому себе: рабочему классу нужна Партия, что будет «вне себя», однако данная экстатичность не рекурсивна. Известный лукачианский парадокс истмата (который часто любит вспоминать Жижек) об уже-революционном потенциале рабочего класса, что оказывается возможным претворить в жизнь только за счёт придания рабочему классу сознания разумом извне (Партией), основан именно на этом: несмотря на то, что рабочий перестаёт быть самим собой (его революционный потенциал имел место быть уже, только при условии отсутствия любого сознания, в состоянии рабочего класса до собственного самосознания), «революционный заряд» при этом никуда не исчезает. Так, Партия становится не просто инструментом общения с Природой, но с самим Богом, и, более того, самим Богом, исключая любой разрыв.
Какое отношение ко всему этому имеет Каратани? В своей «Структуре мировой истории» Каратани рассматривает развитие человечества, Историю, не с позиции марксистских способов производства, но способов обмена. Каждый из способов подразумевает особую модель, коррелирующую с понятиями нации, Государства и Капитала, где последнее, по сути, это гегелевское отрицание отрицания, неудавшееся Aufhebung[2], неспособное снять-преодолеть нацию и Государство полностью. Только Мировая республика становится тем новым, мистическим четвёртым способом обмена, что позволит нам действительно преодолеть любое насилие, любое принуждение, сохранив его на более глубинном уровне. Как пишет Каратани:
«То, что Кант называл “вечным миром”, не означает простое отсутствие войны, но скорее полное упразднение всех возможных антагонизмов между государствами, что означает упразднение государства как такового»[3].
Последнее высказывание демонстрирует при этом чёткие марксистские позиции самого Каратани. Государство должно быть ликвидировано за ненадобностью, как символ наиболее радикального принуждения, как «монополия на власть». То, чем должна быть Мировая республика, так это перманентной войной против всех (антагонизмов), которая никогда не будет завершена. Разумеется, данная модель государства оказывается несколько упрощённой и не учитывает множественные противоречия внутри самой себя, однако интерпретации могут варьироваться. Так, Мировая республика может предстать перед нами как в виде анархической социальной плазмы, так и буквальным Мировым государством, которое, формально, считаться государством не может, ибо для Каратани национальное государство всегда дополнено Капиталом: это не просто форма мысли, концепт, но первооснова: Капитал-национальное-государство идут в постоянной связке, и если один из узлов данных колец Борромео исчезнет, то распадутся и перестанут существовать все остальные. Отсюда, например, «нация мира» будет банальным оксюмороном, ибо по отношению к какой нации есть мировая нация людей? Также и «Мировое государство» будет подобно иконке старой телефонной трубки в приложении сотовой связи на экране смартфона, имеющим форму кремниевой плитки.
К чему я веду, однако? Озвучив всё выше перечисленное, не может не возникнуть соблазна поддаться своего рода провокации и громогласно выступить в защиту Партии. Разумеется, речь нисколько не идёт о лукачианской Партии, но о Партии как таковой, в которую включён разрыв. Разрыв, что предполагает вечную борьбу за «упразднение всех антагонизмов» и что уже есть сама эта борьба. Как полна конфликтов, хаоса и буйства Приррода, также и Партия оказывается бушующим контингентным Политического. Это борьба с и против Партии, в дружественном тандеме продуктивного и творческого спора, основанном на согласии общей цели, общего Блага. Здесь, очевидно, требуется быть крайне осторожным, дабы вновь не скатиться в ловушку пресной диктатуры, борьба против которой заведомо обречена, ибо предполагает не борьбу, но истребление, простую логику Государства как принудительного способа обмена, замену одного Государства другим. Борьба против Партии должна означать логику обмена дара без принуждения, добровольной битвы, в которой единственное, что мы имеем потерять, есть наша изначальная несвобода. Исчезая за ненадобностью, Государство уступает дорогу Партии, той «внутренней нации», по отношению к которой должна существовать нация мира.
II. Пространство Мировой республики
При этом я не могу не обращать своё внимание на один важный момент. Каратани постоянно делает упор на том, что все три способа обмена нам уже (-всегда?..) даны. Это отличает его подход от строго гегельянского/марксистского, где активное и драматическое разворачивание Истории становится краеугольным камнем всей теории. От А к В, от отрицания отрицания к Aufhebung, от идеологии к материи (и наоборот). Каратани же отказывается от данного подхода, тем самым идя против основ чувственности у Канта, которыми служат пространство и время — все способы существуют одновременно — течение их во времени условно — и создают иллюзию хронологической природы Бытия в виде смены главенствующего над всеми остальными способами способа обмена. То, к чему это приводит, оказывается тот факт, что время — онтологическая иллюзия, чью априорную фикцию развенчать относительно просто — уходит на второй план, и Каратани обращается за позитивным онтологическим условием существования[4] к пространству. Ибо что есть пространство (разумеется, помимо феноменологического опыта чувствования)? Определённое соотношение, корреляция: Я относительно, в со-общении, в (не)со-ответствии с Другим. Вещью или же Другим Я. С Другим Я-Вещью? Так или иначе, время здесь играет второстепенную роль, ибо, редуцируя расстояния к позиции воплощённого, буквально физического времени, соотношение всё равно остаётся: Я и Не-Я могут занимать одновременно одну и ту позицию в пространстве и при этом их модальность существования, их симбиотическая связь пограничного раскола остаются, реально существуют, что, в теории, при условии исключения расстояния — временной задержки — было невозможным.
Каратани здесь приводит пример феодальной Японии, в которой, как это не странно, лишь на первый взгляд доминировала Нация (способ обмена А). Именно сильная рука государя (способ обмена В) позволила Японии создать на долгий период устойчивую систему автономии как политической, так и экономической: даже несмотря на изоляцию от всего остального мира, что привела Японию к технологической отсталости, ни некая мифическая пролетарско-крестьянская революция, ни путч, ни гипотетическое насильственное «окультуривание» извне европейцами, намеревавшиеся сделать из Страны восходящего солнца — ничто из этого, а лишь единоличное решение императора-самодержца (открыть страну, начать модернизацию армии, ликвидация сёгуната) позволило Японии сменить курс развития, что сохранило бы (и на долгий период) изначальную структуру (милитаризм, империализм, бюрократический тоталитаризм Государства и т. д.). Важно же здесь другое. Возвращаясь к онтологической роли пространства-материи, Каратани подчёркивает, что важным для Государства было учитывать общую ситуацию суперпозиции: вместо того, чтобы агрессивно и повсеместно насаждать свои порядки, Государство воспроизводило синхронические рамки сосуществования способов обмена: «Вы, крестьяне, живёте по своим обычаям, со своим взаимным способом обмена А. Так тому и быть, мы не будем вмешиваться в порядок вашего хода вещей. Взамен вы будете платить нам дань, признавать Государство как высшее благо, что позволило вашему способ обмена быть и дальше, и тем самым реинфорсить рекурсивную структуру сообщения между способами обмена, где главенствующая роль за нами». Короче говоря, условное феодальное поселение в пространстве занимало сразу две онтические позиции: типическая феодальная коммуна с ретроградными обычаями взаимного принудительного дара («Деревня вырастила тебя и заботилась — теперь и ты “возвращай” ей свой дар, служи ей, учитывай её потребности, помня о том, как она служила тебе, поступившись своими принципами!») и абсолютно типичная, безликая бюрократическая единица в иерархии государственно устройства, единица, сохраняющая свою самобытность, при условии подчинения логике «структуры мировой истории», исключающей любую самобытность на глубинно онтологическом уровне моновекторного развития.
При этом, как и было сказано раньше, сила главенствующего способа обмена заключается и в том, как она определяет способ обмена между способами (однако подробнее об этом в следующий раз): так, тот способ обмена, за счёт которого способ обмена В удерживал свою власть, был заменён другим, и теперь это уже не провинция со способом обмена А, но города, порты, узлы потоков Капитала, где способ обмена С объявляет себя. И Государство жило! Государство живёт! Государство будет жить!
III. Масштаб Мировой республики
Крайне интересно читать при вышеобозначенной мною теории гетерогенного пространства то, как Каратани сам обращается к пространственному различию в попытке донести основную идею:
«В племенных сообществах доминирует взаимный способ обмена А. Это не означает, что способы обмена В и С отсутствуют — они существуют, например, в форме войн и торговли. Однако, поскольку ключевые принципы для В и С в данном случае субординированы принципу взаимности, тот тип сообщества, в котором доминантным является способ обмена В — государственное общество, — не развивается. С другом стороны, в сообществе, где способ В является доминантным, способ А также продолжает существовать. Например, в сельских общинах. Мы также находим развитие способа С, скажем, в городах. В докапиталистический социальных формациях, однако, эти элементы управляются или кооптируются сверху государством. Это мы и подразумеваем, когда говорим, что способ обмена В оказывается доминантным»[5].
Отчасти мы видим здесь моменты, проговорённые и ранее, это не должно нас удивлять. Куда занимательнее момент, когда пространство как концепт возникает в одном смысловом ряду с масштабом, что ещё раз указывает на важную роль пространства (как (пространственного) соотношения, коррелята, своеобразного избытка) как Реального материи. Разумеется, важно учесть, что здесь мы говорим лишь об условностях — города малы, а бескрайние просторы фронтира необъятны при том, что мегаполисы вмещают в себе бо́льшую часть населения страны, тогда как небольшие крестьянские поселения оказываются оазисами, доживающими свои последние дни, посреди пустыни Реального Природы, — однако куда важнее в данном случае рассматривать масштаб как метафору течения, потока «от… к…», невозможности материи просто быть (точнее — быть просто), а существовать в надломленном состоянии, как-то, что нарушает размеренность, статичность собственной бытийного фона как Бытия в необходимости со-относить, со-измерять, со-поставлять как изначальная её характеристика. От периферии к центру; от окраин Империи к метрополии; от сырьевых придатков к сердцу Капитала. От… К… чему? Зачем я это делаю? Необычайно важная деталь кроется в том, что говорит Каратани о способах производства, и где среди всего этого место для способа обмена D, для Мировой республики. В теории все способы обмена уже даны, уже предоставлены нам. Сколько «все»? Три?.. Обязательно четыре! Не стоит забывать, что сам Каратани указывает на особую позицию способа обмена D, намекая, что уже в способе обмена А просвечивалось определённое величие Мировой республики. Как некий непомыслимый способ взаимного обмена без принуждения. Непомыслимый уже потому, что вытесненный как, можно было бы спекулятивно заявить, отвергающий[6] основные принципы исторической рекурсии. Но вместе с этим он никуда не девается, не исчезает на совсем, но уходит в подполье, ведёт подрывную деятельность, оказываясь Реальным всех способов производства, преследуя их призраком будущего, что нависает над ними тяжёлым роком… Бесстыден взгляд, и в нём — погибель!
Таким образом вновь уточним вопрос масштаба Мировой республики. Уточним, исходя из той установки, что Каратани неизбежно вводит масштаб как метафору того условия, что создаёт турбулентность потоков, выводит систему из равновесия, создавая области различного пространственного давления, отчего общее пространства стремиться к выравниваю, к энтропии, которой не достичь. Масштаб задаёт вектор потока, движение того течения между различными областями давления: от более высокого к низкому, от слабого способа к наиболее сильному. Короче говоря, исходя из того, что сами потоки, в конечном итоге стремятся, в конечном итоге, к способу обмена D, как к наиболее сильному, где мы находим способ D? где он оказывается, в каком месте? Интуиция подсказывает нам, что стремиться надо к углублению, к рекурсии самого принципа: как от периферии мы стремимся ближе к центру, так внутри самих центра и периферии (и пространства между) мы должны уходить вглубь, искать сосредоточия Мировой республики. Иными словами, в пограничных случаях, на грани, на границе границ мы должны искать Мировую республику.
Забегая наперёд, как раз в пятой главе своей книги «Мировые империи» (во втором разделе «Мир-империя») Каратани, сравнивая древнегреческий полисы и Ионию (тогдашнюю окраину эллинского мира), приводит пример Гиппократа, великого врачевателя, известного своей эмансипаторной клятвой, приняв которую врач обязывался предоставлять всякую[7] посильную помощь любому больному вне зависимости от его статуса, социального положения, богатства, моральных качеств, идеологических предпочтений (союзник или враг) и т. д. и т. п. Иными словами, Гиппократ, как истинный врач, уже-всегда оказывается гражданином Мировой республики, в случае чего можно утверждать, что и сегодня крайне локализованную инстанцию Мировой республики можно найти в виде больницы, места, где всё абсолютно равны! Врачи, медсёстры и медбратья, посетители, больные, фельдшеры скорой помощи, патологоанатомы — все равны в своём страдании. Нет в этом смысле никого, кто был бы в лучшем или худшем положении. Абсолютное равенство, целью которого в утопическом проекте Мировой республики оказывается неравная, вечная борьба со смертью, что никогда не прекращается. Существуя за пределами правовых норм (возникая на новой, более высоком уровне), больница оказывается тем, что ликвидирует Государство внутри своих стен, достигает ликвидации всех антагонизмов и выводит их на уровень более глубинный — уровень онтологической тотальности. Главным вопросом оказывается лишь вопрос цены, которую стоит заплатить, чтобы попасть в больницу и достичь Мирового государства.
- I. Дополнение
Существуют ли иные примеры Мировой республики, исходя из сделанного нами выше вывода? Есть ли Мировая республика в ещё меньшем масштабе на ещё более глубинном уровне? Здесь, как ни странно, стоит обратиться к Жижеку, который, обращаясь вновь к ионийцам (к ним относился Гиппократ), указывает на то, что:
«…нам следует утвердить параллаксный статус философии как таковой. В самом начале своего существования (ионийские досократики) философия возникла на стыке значительных социальных общностей, как мысль тех, кто оказался в положении “параллакса”, не имея возможности полностью идентифицировать себя ни с одной из позитивных социальных идентичностей»[8].
Иными словами, мы вновь отходим от Платона, который в «Государстве» указывает на необходимость политики, как на изначальное условие-причину философии, на некое реальное действие, имеющее реальные последствия, исходящее из материализм конкретных нужд. Для Жижека философия возникает в разрыве, из разрыва. В конечном итоге, в лучших традициях жижекианства, это возникновение-из-разрыва и есть сам разрыв. Слегка смещая нашу точку зрения, мы можем ещё пуще уточнить зону сосредоточения Мировой республики, узнав её непосредственно в философии. Есть ли при этом у философии реальные проявления? Философ? Может ли философ считаться Мировой республикой? Теоретически, да, ибо субъект сам в себе раздвоен, децентрирован по отношению к самому себе, и Единое оказывается Двоицей. В этом смысле Мировая республика оказывается той трансцендентной логикой, в которой обмен происходит между самим собой, в пространстве, где обнажается возможность самому сосуществовать в двойной позиции «Единого» пространства.
И всё же, своеобразная логическая ловушка здесь налицо! Кто есть Не-Я в моём Я? Очевидно, что вся установка действительна лишь при том условии, что у самой фантомной стороны реального проявления Истины появится реальное проявление. Лакан называет это проявление Другим, однако само наше сообщение с ним должно достигать взаимного обмена без принуждения, дабы Мировая республика имела место быть изначально как условие. Не оказывается ли философия вновь этим сообщением, но уже в новой позиции, в позиции осознания собственной позиции «между»? В этом смысле философия обнажается до своей голой природы, до «любви к мудрости» как Любви. Ибо, разумеется, Любовь вмещает в себя эротический восторг возбуждения и смиренность дружбы, однако не является ничем из этого. Любовь возникает как строгое условие соприкосновения, сочленения. Любовь в этом смысле, можно сказать, пространственна. «Без принуждения, исключительно моего убеждения, понимания, по отношению к тебе я осознаю необходимость приносить дар, который будет таковым, что, уже подарив, он станет мне уже самому наградой и воздаянием». В этом смысле, Любовь оказывается как никогда ближе к тому философскому дискурсу, что возникает между умами в настоящей дружбе, в трансгрессии, когда обмен идеями, обмена пустотой снимает необходимость принуждения, ибо мы уже «ничего» не привнося в этот мир, исходим из его принципа возникновения из пустоты, движения (как пустота) из пустоты в пустоту. «Беря взаймы у будущего», которого нет. Такому много примеров. Из самых трогательных, разумеется, Сократ и Платон, Маркс и Энгельс, Бланшо и Левинас, Делёз и Гваттари… Говоря об этом феномене словами уже упомянутого выше Левинаса, то, как нам должна являться Мировая республика, есть неизбежно то, как из настоящей дружбы, вечно (читай, неустанно, неизменно, неостановимо) раскрываясь, мы открываем себя в Другом как полноту мира, и у нас появляется «представление о бесконечности» [to have the idea of infinity]. Чистая дружба укрывает собой «вечный мир» Мировой республики, рождаясь из философии как Любовь, что требует дара без принуждения. Посему минимальным будет население Мировой республики из двух человек. Более глобально из Я и Другого, что ближе к Ты, нежели чем к Не-Я. В конечном итоге, Мировая республика — возможно, здесь мы можем позволить себе рекурсивную дерзость — есть дискурс о самой Мировой республики в том смысле, в каком ультимативным дискурсом об оной можно считать ту же Природу Канта из третьей критики: органическую, устойчивую, самоорганизующуяся, не требующую при этом никаких вмешательств. Разумеется, с этим уже не соглашаются посткантианцы, однако это мы и так уже знаем. Что куда важнее, так это то, что, сам того не осознавая, отважившись в своё время делиться публично моими мыслями со всеми вами, я неосознанно сделал шаг (и продолжаю делать) навстречу Мировой республике, о которой наконец-то говорю, чей дискурс продолжаю, создавая тот «вечный мир», который, в том числе, имеет ввиду Каратани.
IV. Способ обмена способов обмена
- I. Способ обмена как вопрос Истории
Возвращаясь к вопросу о способах обмена у Каратани как к вопросу об их (способов) синхроничности, неизбежно перед нами возникает определённая сложность удержать непосредственно сами способы через их (само)различение. В каком-то смысле можно было бы сказать, что данный конфликт учтён напрямую постановкой вопроса, ибо, например, Каратани говорит про то, что способы обмена существуют одновременно с превалированием одного из способов. Иными словами, они существуют в своего рода «одновременной одновременности» с тем лишь замечанием, что различаются они непосредственно на уровне собственной агентности: культура со способом В (Азиатский деспотизм) сосуществует с культурой способа А (древнегреческие полисы) при том условии, что сам по себе способ обмена В отличим от способа обмена А через непосредственное подчинение последнего первому. Иными словами, происходит определённым образом сообщение непосредственно на уровне способов обмена, при котором коммуницируется определённое «высшее знание», возникающее как своего рода откровение и указывающее на «реальный» ход вещей: на данном этапе развития истории А неизбежно подчиняется В, и такой порядок должен быть установлен впредь до тех пор, пока не будет утверждено обратное. Что интересно, Каратани упоминает при этом то, как происходит непосредственно обмен между этими «способами» обмена («способы», так как речь идёт скорее не о переходе от одного способа к другому в рамках одной замкнуто-локализованной области, но между доминацией одного способа над другими конкретно в рамках более глобальной гетерогенной ткани мира):
«Обращаясь к примеру Западной Азии, [мы обнаружим, что] когда месопотамские и египетские общества развились в необъятные мировые империи, племенные общины на их окраинах были либо уничтожены, либо поглощены. В то же время греческие города и Рим смогли развиться в города-государства. Они заимствовали цивилизацию Западной Азии, а именно, среди прочего, её системы письменности, оружие, религии, но не приняли модель централизованной политической системы, а вместо этого возродили прямую демократию, существовавшую со времён кланового общества. Однако такой вариант взаимодействия с центром был возможен только лишь потому, что они располагались на определённом расстоянии от него»[9].
Налицо известное противостояние между Господином и Рабом у Гегеля в том смысле, в каком у Гегеля неопределённость остаётся подвешенной как изначальное необходимое условие что знаменует собой само условие необходимости: по какому принципу решается, какая субъектность станет Господином, а какая не выдержит и будет «вынуждена» подчиниться? В определённом смысле для Гегеля (как и со способами обмена — у Каратани) данный вопрос оказывается тавтологией: не имеет абсолютно никакого значения какая субъектность возьмёт верх, а какая — признает поражение. Обе субъектности оказываются богатством Субъектности как таковой, в сингулярности которой неизбежно заключена сама универсальность познания Духом самого себя: Дух — един и бесконечен, но эта бесконечность всегда раздвоена в мгновенности момента, в одновременности Духа, который подчиняет самого себя и в то же время подчиняется себе. В конечном счёте, на простом познании власти (утверждении господства и рабства) развитие Духа не заканчивается, но продолжается в поиске истинной власти, которая отвечает лишь чистой субъектности Раба, чья власть опосредована непосредственно опосредованностью самого Раба, подвешенном между Природой и Господином. То «между» (Господином и Рабом), в котором открывает и находит себя Дух, переходит на новый уровень, уже как трансгрессия не просто имманентная самому субъекту — субъект всегда раздвоен, чужд самому себе, непостоянен, искажает реальность неопределённостью собственной позиции в мире, — но как, своего рода, трансгрессия трансгрессии: объект возникает на периферии субъектного восприятия самого себя неизбежно как сам зазор, различие «между», сам Дух, который оказывается как субъектом (в его субъектности), так и объектом (в его объектности, как изначальная врождённая чуждость самого субъекта).
Разумеется, тут можно возразить, что для Каратани речь идёт скорее о том, что различённость как таковая уже дана: любые попытки включить «сообщаемость» между способами обмена в общую картину мира есть попыткой исказить изначальный посыл: способы обмена уже-всегда даны, уже-всегда даны-как-различённые, чтобы быть точнее. В конечном итоге, Истории и оказывается этой различённостью уже на наличном уровне, обозначенной и осязаемой. Иными словами, «смена поста» между различными способами предполагается как некий «метаязык» обмена лишь в контексте искажения субъектом мира. История есть, она уже всегда дана, но, чтобы распознать её, нам необходимо включить в неё определённый маркер, который указывал бы нам на «ход времени». Отличие от Гегеля здесь в том, что, очевидным образом, во-первых, История возникает исключительно после того, как Дух решается на самосознание, в котором субъект и объект откроются друг другу как сущностно безразличные, как порождения самого Духа. (При всём при том, что у Гегеля особая синхроничность моментов также присутствует, но дана она лишь на подразумевании, как противоречие, включённое в пафос разворачивания Духа.) Во-вторых, как уже было сказано ранее, История у Гегеля сингулярна, служит непосредственно Духу как история поиска Истины, после окончания которой должна начаться непосредственно История Истины как таковой (как Время, что у Пруста, приобретается, оказывается найденным в самом конце). В определённом смысле, это необходимо Гегелю, дабы утвердить крайне специфическую утопичность его теории: каждое действие, каждое движение Духа несёт в себе драматическую составляющую, способную на самые радикальные последствия, на гетерогенность, что утверждает саму ткань реальности: даже наше самое малейшее действие, самый незаметный взмах крыльев бабочки содержит в себе революционный потенциал. Проблема здесь налицо, ибо не стоит далеко заходить, чтобы увидеть в данном движении определённую объективизацию Истории и обвинить Гегеля в примитивном историзме, в том, что Хайдеггер окрестил историологией.
Возвращаясь, однако, к Каратани, мне кажется, что нельзя посчитать наш гипотетический ответ на вопрос о способах обмена между способами удовлетворительным. Иначе отчего мы предполагаем способ обмена как априори трансгрессивный? Не подразумевает ли здесь Каратани, что, в теории, должен всё-таки иметься и способ обмена как метаобмен? Обмен между обменами? Разумеется, можно было бы сказать, что речь идёт лишь о заимствовании, не связанном со способами обмена, чья логика скорее исключительно имманентна. И всё же данное утверждение не может не показаться спорным. «Письменности, оружия, религии»… Чем не системы/формы обмена определённого содержания (сам способ обмена)? Допустим, возвращаясь к приведённому выше примеру с Западной Азией, Греко-персидская война. Откуда возникает эта необходимость войны? Вторжения одного способа обмена в другой? Ведь война происходит не просто «внутри способов» (способ-как-содержание, что сущностно как эманация собственного различения довлеет над другими), что таким образом пытаются разрешить внутренние противоречия априори принудительного обмена, равного в теории, но «между способами» (способ-как-форма). Не говорит ли это о том, что необходим способ, позволивший бы нам схватить это более глубинное противоречие, выраженное в том, что, несмотря на синхронизм обмена как такового — сама структура обмена, не принимая во внимание непосредственно разделение на способы, на которые можно было бы секуляризировать само различие, — единственная возможность достичь его, сделать сам синхронизм обмена и сообщения, корреляции мыслимым (а значит — реальным), лежит неизбежно в плоскости дисконтинуальности? раздора? разрыва, вводящего в структуру связанности изначальную асимметрию, возникающую до обмена как такого? Изначальную «задолженность», что начинается со способа обмена D как требования, как того, что дано нам, как указывается Каратани, как изначальный Идеал, что после — неизбежно апроприируется «материализмом ситуации» как невозможное, недостижимое, вытесненное, что делает саму нормальность существования «данной»? За ответами нам неизбежно потребуется обратиться к Канту и его третьей критике.
- II. Способо обмена D как Невозможное-Бог
В 28 разделе своей третьей критики Кант совершает определённого рода радикальный разрыв, который, как мы можем догадаться, уже-всегда присутствовал в трудах: от разума, ограниченного трансцендентным опытом категорий рассудка, что, совершая трансгрессию, возвращаются в себя, но в этот раз уже отчуждённо, мы приходим к разуму, который буквально бесконечен в своих способностях, которому нет и не может быть предела. Кант объясняет это на примере Природы, вселяющей в нас страх своим могуществом. Ибо Природа — божественна: её мощь кажется нам непреодолимой, непокорной. По сравнению с ней мы настолько незначительны, что сама наша способность сопротивляться открывается нам несчастными потугами зверя, загнанного в угол, слабостью тела, поддавшегося зову страстей, и нам только и остаётся, что лишь подчиниться воле стихии, космической силе мира. При этом сам Бог остаётся недоступен нам. «Бог есть не иное, как сам Бог», стоит нам вспомнить Николая Кузанского. В чём это проявляется, объясняет Кант, так это непосредственно в том, что мы оказываемся в состоянии понять ужас перед Богом, понять саму «страшность» Бога как бы апроиори, без необходимости изначально испытать страх перед всевышним. Бог страшен, и при этом мы его не боимся. В определённом смысле, именно поэтому мы его и не боимся, ибо Бог страшен изначально до самого опыта как такового. Природа, как уже было сказано, содержит в себе божественную частицу, Его силу и мощь. Вместе с этим Природа не есть Бог — лишь его принцип. Это подразумевает, что Природа требует от нас того, чтобы её устрашение было понято исключительно с позиции опыта, с позиции боязни как таковой перед её сокрушительной сущностью. Для Канта оказывается важным именно момент, исключительно лаканианский мотив, в котором выражается вся сущность разума: ибо для того, чтобы действительно воспринять страх перед Природой как тот, что требует повиновения, подражания, смирения, человеку оказывается необходим разум, который способен будет понять этот страх как-то, чем он есть на самом деле — восторгом перед возвышенным, что, разумеется, оказывается невозможным ровно до тех пор, покуда нашим телом и душой повелевают плотские страсти и чувства, затмевающие изначальный посыл мощи Природы. Таким образом мы имеем дело с парадоксом, при котором для того, чтобы действительно понять всю силу Природы, что возможна только через страх невозможности одолеть и превзойти её могущество, нам необходим разум, который возьмёт верх над этим самым страхом и позволит человеку увидеть могущество Природы таким, каким оно и было изначально — воистину возвышенным феноменом, к которому наш дух тяготеет изначально, как к тому, что обещает вечное благо. Для разума нет ничего невозможного, воистину, отчего Кант делает вывод, что внутри человека бесконечность Природы как таковая — как её могущество, но также и её могущество могущества как власть — уже имманентизирована в виде «второй натуры». Именно поэтому в целом становится возможным определённое «желание возвышенного» на расстоянии, в отчуждённом состоянии невозможного, когда, казалось бы, дабы постичь всю полноту опыта, необходимо было бы схватить и удержать в себе непосредственно саму эмпирическую его суть, означавшую бы полное стирание субъекта. Как и у Лакана, субъект желает желание, но, что куда важнее, само желание желает субъекта, отчего мы и имеем кастрацию как механизм предотвращения стирания желающего и порождающего желание: наблюдать за извержением вулкана не просто желательно, но необходимо исключительно издалека, со стороны, с позиции разума, что отделён от мира прослойкой нереального в самом мире как его Реальное, необходимо, дабы увидеть в этом ужасающем событии то возвышенное, о котором говорит Кант. Ведь, разумеется, мы могли бы познать весь этот ужас на своей шкуре, узнать его «таким, каков он есть на самом деле». Это опыт, однако, закончился бы полной аннигиляцией. Не просто субъекта как такового, но «опытности» в целом. Возвышенным оказывается непосредственно опытное познание как таковое, видимое как врождённо возможное и необходимое априрори.
Поэтому месту Бога как трансцендентному Кант уделяет отделяет место, о чём мы уже успели обмолвиться ранее. Если для разума нет ничего невозможного, то невозможное как категория должна была бы отпасть за ненадобностью, как-то, что вскрывается как изначальная онтологическая фальсификация. И всё же в определённом смысле само это открытие есть невозможным как Невозможным, парадоксом, который не имеет смысла, и всё-таки существует, всё также реален в смысле Реален, нарушая чётко выверенный и обозначенный порядок вещей. Бог встраивается в эту систему именно с этой позиции, с позиции парадокса par excellence, когда само невозможное оказывается возможным как возможное Невозможное (при изначальном условии его отсутствия): неважно как далеко мы зайдём в бесконечности нашего разума, всегда найдётся некая бесконечность, которая всегда будет больше, всегда будет оказываться по ту сторону изначальной бесконечности, как если бы у неё могли бы быть какие бы то ни было пределы[10]. И не встречаем ли мы похожий мотив, возвращаясь к Каратани и его способам обмена (и обмену между ними с позиции власти и властвования) как к вопросу о бесконечностях? Очевидно, что сам по себе ни один из имеющихся у нас в распоряжении способов обмена не есть бесконечным — количество товаров, вещей, услуг, эмоций, энергий, атомов, войн и проч. физически ограничено, — однако бесконечными оказываются сами их принципы. Так, один и тот же дар при способе обмена А может быть обменян бесконечное число раз между одними и теми же людьми, возвращаясь в одни и те же руки бессчётное количество раз, в то время как при способе обмена С одна и та же услуга не исчерпывается лишь формой (вид услуги), а продолжает оказываться до бесконечности как неизбежное условия самой системы. Куда важнее оказывается непосредственно способ обмена между самими способами обмена, ибо здесь нам необходимо выйти на новый уровень, на уровень бесконечности, что больше всех предыдущих бесконечностей по своей сути. Вместе с этим, как это уже проговаривалось ранее, у Каратани кроме логики четырёх способов других быть не может. В этом смысле мы могли бы попытаться утвердить обмен между обменами не как способ обмена как таковой, а как заимствование. С другой стороны, если рассматривать заимствование всё-таки как способ обмена, то мы должны распознать какая именно логика обмена применяется в каждом конкретном случае. Скажем, обе системы (с разными доминантными способами) могут обмениваться чем-то и чем-то по одной из четырёх логик: платить за заимствование, насильственно осуществлять обмен, обязывать отдариваться, или даже то, что Каратани называет чистым, невзаимным обменом или даром. Например, заимствование письменности может быть чем-то вроде логики D: здесь не предполагается насилия, принуждение к отдариванию — хотя, возможен как бы некий вид торга (в том числе и за деньги), — но, скорее, невзаимный обменом, чистый даром, который не требует разрешения и не просит ничего взамен. Таким образом мы вновь приходим к способу обмена D как к способу, что оказывается в основании всего сообщения между самими способами обмена: непосредственно как более высокий уровень существования, но и также как сама экзистенция как таковая. Ведь что есть способ обмена D? Точнее, что он есть, если не изначальное Невозможное как Невозможное начало, та точка отсчёта, которую невозможно схватить уловить и при этом та точка, которая схватывает всю бездну существования и оказывается его основанием как та бездна, лежащая в самом основании? В определённом смысле сменяемость способов обмена (как и в универсальном масштабе, так и в синхронной аритмии на более локальных уровнях в виде сообщения между различными способами обмена в разных мировых областях) уже есть о сути своей божественный принцип способа обмена D как-то, что делает саму сменяемость внутри синхронии возможной, задаёт движение истории при том, что сама синхрония обменов не предполагает новых открытий. Единственным вопросом остаётся, как ни странно, вопрос разума. Ведь именно благодаря разуму становится возможным, согласно Канту, прийти к Богу как к той точке, что схватывает в себе Невозможное как бесконечность, как истинное неисчерпываемое множество Бытия вообще, что требует рациональности в её самом что ни на есть возвышенном значении. Не зря сам Каратани пишет, что способ D должен ответить всем трём предыдущим способам сразу, воспроизводя изначальную синхронию рекурсивно уже на более высоком уровне как уже-всегда рекурсивное движение в моменте. Вопросом же данная позиция остаётся именно потому, что в наше проект разума, если и не находится в глубоком подполье/кризисе, то претерпевает страшную стагнацию, отчего проект Каратани вновь и вновь напоминает нам о себе как утопический, как-то, что уже вкладывает в себя попытку помыслить парадокс невозможного через кондицию уже доступного нам, через само возможное, наличное, через материализм, что сам по себе не должен был бы существовать, не должен был бы быть возможным… И несмотря на это возможное как невозможное существует и продолжает существовать. И в этом и скрывается изначальное возвышенное невозможное.
V. Заключение
Подводя итоги нашему анализу введения «Структуры мировой истории» Каратани, имеет смысл вернуться непосредственно к началу нашего исследование, а именно к вопросу структуры. Ибо, говоря о проекте Каратани, говоря о том, что должно было бы представлять из себя Историю как таковую, наш курс претерпел значительные отклонения, что, однако, в каком-то смысле сыграло нам только на руку. Ведь что есть История? Для Гегеля, часто оказывающегося превратно истоклованным, История, как мы и упоминали, есть история Духа, познающего себя через собственные эманации, как Знание. Возможно даже как, не побоюсь этого слова, Наука par excellence. Вместе с этим История Каратани всё также остаётся для нас пока загадкой. Сменяясь друг другом, способы обмена, тем не менее, оказываются нам уже-всегда данными изначально, отчего история Истории у Каратани есть буквально история регулятивной Идеи, кантианского Идеала, который оказывается тем Невозможным, что, как Бог, несмотря на всемогущество разума, удерживается в своём изначальном состоянии несхватываемого, выходящего за пределы любой бесконечности. Короче говоря, Невозможное есть несмотря на кажущуюся невозможность существования. Можно ли тогда заключить, что имеет смысл (как и имеется необходимость) рассматривать теорию способов обмена Каратани как критику Канта с точки зрения хайдеггерианской логики темпоральности? Если очень постараться, то, разумеется, нет ничего невозможного, однако данное умозаключение не лишено смысла. Ведь ещё в 1924 году — за три года до написания «Бытия и Времени» — в своей лекции, позже опубликованной под названием «Понятие Времени» в 1935 году, Хайдеггер указывает на трудности работы с таким понятием как Бог. Разумеется, Бог признаётся и философами, однако философия не понимает Бога как Бога, каким его видит теология — пока теологи работают с понятием Бога, как он есть на самом деле, воистину, философы же создают различие, несоответствие. Посему философы не верят в Бога, в того Бога, каким он предстаёт у теологов. Возвращаясь к уже упомянутой формуле Николая Кузанского, необходимо видоизменить её на философский манер: Бог не есть (ничто иное, как) Бог. У Хайдеггера это подчёркивается, как всегда, уровне языка, отчего философы банально не могут говорить о Боге, не могут высказать его, обратившись к нему, а потому — схватить и выразить так, как это делает теология. Хайдеггер, посему, вводит понятие Времени как способ философии говорить о Боге, не говоря о Боге, не называя его по имени, создавая новый язык, подчёркивая то различие, которое стоит во главе угла в хитрой хайдеггерианской диалектики. Ибо, разумеется, Время и История двоятся. Сама История разбивается на как бы на историю Истории как-то, что запечатлевает истинную сущность Времени (История — темпоральна), и науку Истории (у Хайдеггера она называется историологией). Разумеется, эта структура рекурсивна: историология, будучи историчной, уже по этому принципу историческая и вписывается в разворачивание Истории через собственную темпоральную натуру (история самой себя через различие — одно состояния вещи сменяет другое, утверждая синхроническое состояние фрактальность становления, все этапы которого нам уже-всегда даны). По сути, речь идёт о том вопросе, что мы уже упоминали в прошлой нашей заметке: вопрос различия между Временем, Историей (как историей Истории) и историей есть вопросом различия между Абсолютной, актуальной и потенциальной бесконечностями, где последняя точно также, несмотря на свою неполноценность, претендует на тотальность: неважно сколько велика сама бесконечность, всегда можно добавить единицу, которая совершает трансгрессию пустоты, вбирая в себя космос вокруг. Так, ко всем единичным единицам измерения времени — их бесконечному числу (как и к бесконечному числу n+1 операций) — прибавляются уже все предметы, что они исчисляют, прибавляются их состояния, прибавляется само Время… Хайдеггера это, очевидно, не устраивает, так игнорируется природа темпоральности как таковой, когда в авременной бесконечности Время не исчезает, но обрамляется собственной полнотой как богатство Бытия, перед которым имеется долг самого существования.
Сразу же стоит отметить, что, возвращаясь к «Структуре мировой истории», Каратани, разумеется, не воспроизводит логику Хайдеггера буквально. Более того, следуя слову марксистского учения, пренебрегая Государством как тем, что не способно выйти за пределы собственного механизма притеснения, Каратани стремиться к логике отказа от запрета: не забудем же, что способ обмена D остаётся символом насилия, фрейдовским вытесненным, тем, что неспособен вобрать в себя и выразить язык, а потому — опускается на уровень насилия, сокрушительной силы, что высвобождает изначально материалистическое основание любого акта. Любой обмен есть насилие, а значит и способ D есть насилие в том смысле, в каком это насилия языка как, в конечном итоге, насилие над языком, насилие насилия. И если мы и можем провести здесь какие бы то ни было параллели с проектом Хайдеггера, то скорее всего этим будет отказ от временной плоскости в том смысле, однако, в котором для Каратани это всё же отказ от темпоральности как таковой, в то время как Хайдеггера против темпоральности в том смысле, в каком он есть за авременность. Насилию времени должен прийти конец в том смысле, в каком материализм Времени должен прийти на его место как вечно-приходящее, ибо оно будет неспособно исчерпать себя: материализм в собственном множестве ипостасей как изначально Многое[11], в бесконечности счёта и перестановок, невыхолащиваемых. С позиции истинно эмансипаторной программы. Где будущее Мировой республики есть будущее при-ходящей атемпоральности.
. . .
Сноски:
[1] Это можно уже выудить у Маркса, что и делает Каратани, к которому мы обязательно вернёмся позже, находя у него в «Критике Готской программы» прямое заявление того, что немифическая потребительная стоимость возникает именно из Природы, а не из труда. «Труд […] есть лишь проявление одной из сил природы», пишет Маркс, указывая на то, что, да, Природа в равной степени с трудом есть источником всех потребительных стоимостей при том условии, что труд уже децентрирован по отношению к человеку. Отсюда можно как раз-таки прийти, как это делает Каратани, к Марксу как к кантианцу, который утверждает целостную гармонию Природы — она уже предстаёт перед нами некой магической характеристикой надчеловеческого. Труд человека оказывается своего рода простой случайностью, даже не контингентностью, отчего само Благо исходит от его отстранённой позиции, позиции недопущенного к органической, «естественной» самодостаточной системе. Сама материя уже полна жизни.
[2] Здесь стоит сделать небольшую, но важную ремарку. Как станет ясно, Каратани выступает исключительно с кантианских позиций несмотря на его работу, в том числе, с Гегелем. Это стоит учитывать хотя бы потому, что Канту недоступно Aufhebung: для Каратани форма идеального государства Мировой республики должна означать собой «возвращение вытесненного» по Фрейду. Вытесненным в данном случае есть не только сама утопия, но, на более глубинном уровне, сама её трансцендентная натура Бога. Короче говоря, фантазия о недостижимости (политической) фантазии должна быть дестигматизирована. Моя интерпретация, в лучших гегельяно-жижекианских традициях, включает в себя неизбежно само вытесненное в том смысле, в каком между отрицанием отрицания и Aufhebung имеется параллаксный зазор. Тогда как отрицание отрицания вскрывает глубинный антагонизм двух противоположностей, каковые на поверхности вовсе на обязаны вступать в конфликт, а лишь различаются, именно Aufhebung служит той самой «негативностью с позитивным содержанием», сохраняя и преодолевая в лучшем диалектическом смысле. Каратани, разумеется, данными понятиями не оперирует, исходя из собственной позиции недостижимости.
[3] Karatani, K. (2014). The Structure of World History (p. xx). Duke University Press; пер. мой.
[4] Здесь, опять-таки, велик соблазн уйти в левое шеллингианство, указав и на ложность пространства, что вытекает из доонтологического принципа безразличия материи и Идеологии, пространства и времени, но пока что нам стоит избегать этого. Главной задачей остаётся попытка не сократить разрыв между позициями Канта и всей посткантианской мыслью, но максимально уточнить, выделить, подчеркнуть разрыв, как того требует истинный параллакс.
[5] Karatani, op. cit., pp. 9–10; пер. и курсив мой.
[6] Вместе с этим очевидно, что способ D не просто не отвергает основой принцип исторической рекурсии согласно способам обмена, но утверждает его. Самообман субъекта возникает из его трансцедентальной позиции, которой недоступна трансцендентая позиция. В этом смысле, как мы уже говорили ранее, способ обмена D — это божественный принцип как Бог принципов, а Мировое государство — реальное царство Божие на земле (и сам Бог).
Здесь мы вновь лицезрим главное различие между кантианской и посткантианскими позициями. За что по Фрейду способ обмена D вытесняют? Жижек бы сказал, что способ обмена D не вытесняют, но что это уже-всегда вытесненное, основа самой позитивности материи/материальной концепции Истории. Каратани должен был бы согласиться, однако трансцендентость способа обмена D говорит сама за себя: есть нечто недостижимое, то, что мы не можем охватить нашим трансцедентальным чувствованием — интуиция, присущая лишь Богу, в человеческой темпоральности завершается коротким замыкание субъекта, — но вместо того, чтобы принять невозможность как нечто сверхчеловеческое, надсубъектное, мы вытесняем саму эту мысль, поддаёмся соблазну исключить саму возможность невсесильности разума. В частности, объясняя наш разум его всемогуществом (что должно включать в себя и недостижимый Идеал). В этом смысле можно было бы сказать, что Гегель и его последователи парадоксальным образом ещё дальше отталкивают от нас то недостижимое, за которое борется Каратани.
[7] В этом смысле куда показателен тот факт, что Гиппократ и его философия оказываются куда ближе к эмансипаторному проекту Мировой республики, нежели тот же проект демократии, который сегодня всячески возносят в ранг священной коровы либеральные политики, своими же действиями эту корову расчленяющие. Тогда как Гиппократ указывал на необходимость полного, безусловного включения в структуру социального порядка — нечто близкое мы находим, например, у Бадью в его политике Истины, где каждому, кто объявит себя уже на идеологическом уровне искренним приверженцем проекта французского гражданского общества, должны вне обстоятельств и без всяких ограничений предоставить полные свободу и права гражданина Франции, — именно Платон же обосновывал теоретически демократию вторым политическим строем снизу (хуже была только тирания) и называл Гиппократа софистом (он был учеником Горгия и Демокрита), обозначая тем самым вредность и опасность его идей (все знают о ложности не просто учений софиста, но его самого: софист — симулякр философа, подражатель, чья мудрость — лишь подобие мудрости, её форма, партикулярное знание вне Истины) для стабильного политического строя Нации, где необходим чёткий контроль (принуждение к…) над справедливостью. Последнее особенно подмечает Каратани, указывая на то, что, несмотря на прогрессивные политические формы (способ обмена В), полисы тогдашнего эллинского мира на высшем уровне сообщались исключительно через принцип равноценного, взаимного дара с принуждением — большинство тогдашних государств на греческом полуострове при ближайшем рассмотрении оказывались соответствующими племенной структуре отдельных народностей, различие между которым подчёркивалось не столько на политическом уровне (не государство против государства), сколько на уровне национальном (отчего государственность играла решающую роль как некая форма Нации, как её особенность — только определённая, избранная нация может догадаться, скажем, до аристократии как формы управления, что делает саму политику доказательством нашей исключительности как этноса). По итогу, истинное начало мировой истории, способ D как принцип любого способа обмена, изгоняется её же порождением — Платон обязан Гиппократу своим политическим существованием, но сам Платон вытесняет Гиппократа как собственную угрозу, во многом преследуя ровно те же принципы куда менее удачно.
[8] Žižek, S. (2006). The Parallax View (p. 7). The MIT Press, пер. мой.
[9] Karatani, op. cit., p. 24; пер. и курсив мой.
[10] Подробнее о разнице между двумя разными бесконечностями — а именно между актуальной (она же — трансфинитная) и абсолютной бесконечностями см. также Кантор, Георг (1985). Труды по теории множеств. М.: Наука.
[11] Здесь неизбежно вспомним о философских истоках Маркса, что кроются в философии Эпикура и атомистов. Так, читая «О природе вещей» Лукреция, невозможно не провести параллели с материалистической основой Бытия у Маркса, когда он перевернёт Гегеля с ног на голову. Ибо, как утверждает Лукреций, должно существовать бесконечное множество «атомов», у которых не может быть частей, которые есть основой всего (даже пустоты, в которую они помещены, так как она сама должна содержаться в чём-то, быть помещена в некий материальный сосуд, даже будучи ни ограниченной в размерах). Эти «атомы» есть вечными, ибо, не содержа частей, они не могут более распасться и, посему, наделены бесконечной плотностью и силой быть частью всех других вещей, явлений и качеств. В этом смысле, Лукреций доказывает, что даже сама пустота — «материальна», так как оказывается пространством, где «атомы» в своём «танце» создают (ся в) новые вещи, чтобы после — рассыпаться вновь и быть пересобранными в нечто совершенно новое. Отсюда вытекает и том, что само Время не есть чем-то особенным, но точно также «состоит» из «атомов», чей «бег» и «смена состояний» являются нам сущностью Времени, временностью времени, его неизбежным качеством сменяемости.
. . .
Подписывайтесь на телеграм-канал: https://t.me/art_think_danger
Подписывайтесь на инстаграм: https://www.instagram.com/hortusconclusus1587/
Подписывайтесь на Medium: https://medium.com/@hortusconclusus
Подписывайтесь на syg.ma: https://syg.ma/@hortusconclusus
