Балканские сказки: триптих о гражданской войне
Предисловие: в октябре–ноябре 2025-го года я совершил большое путешествие по Балканам, которые для меня последние несколько лет были странной и неизбывной мечтой. По итогам своих странствий я написал 3 текста: эссе о гражданской войне, поэму о гражданской войне и пьесу о гражданской войне. Точнее — написал 3 балканские сказки. Каждая из них наполнена моей большой любовью к людям эти края населяющим, отданной из сердца, в которое воткнут азиатский кинжал.

Хронология балканских сказок: дневник. Первая часть триптиха
(О балканских снах и сказках о гражданской войне; работах Саида Атабекова, Руқии Фархадовой и Анны Кин; рядах на намазе, образующих узор, а также смехе дзанни как инородном и связующем вся звуке)
I. Бывшая Югославия, Саид Атабеков, Руқия Фархадова, белокожие мусульмане и балканские мемы.
Первое, что мне сказали «релоканты» в черногорском Херцег-Нови, когда я там очутился спустя сутки пути из Алматы через Стамбул, Вену и Дубровник (может не самый-самый дешёвый, но самый смешной маршрут, который я нашёл): все стереотипы, которые я знаю о Балканах — это правда, и даже скорее преуменьшение, способ сгладить углы той бескрайней, словно линия горизонта в степи, реальности, что выливается на тебя, как шторм на чертёжника пустыни, только ты пересекаешь границу «Центральной Европы» (как шутил в том легендарном видео Славой Жижек). А ещё то, что Кустурица, на самом деле, ни черта не игровое кино снимал, а документальное. Это осознание, говорили они, дало нам почувствовать себя здесь как дома.

Где-то через неделю, в чудом не разрушенном диффузией югославском вагоне времён ещё не погрязшей в гражданской войне Югославии, на границе Черногории и Сербии, я записал в дневнике: «В балканских вагонах можно высунуть руку из окна и закурить, потому что здесь всё по-братски: и любовь, и ненависть. Всё дико и всё вне логики, и расписания — Брюссель далеко, а есть только вялотекущее шизофреническое движение. Всё, что вы знаете о Балканах — это правда, и даже больше, чем правда, здесь даже лучше». Наверное, если бы такой текст выдал белый человек, его бы давно уже обвинили в экзотизации «меньшинств» и «Востока», в желании оправдать собственное варварство варварством чужим; в желании успокоить себя тем, что всегда в миру найдутся люди неприятнее тебя. Однако я не считаю, ни в коем случае, Балканы менее «цивилизованными», чем моя Центральная Азия или, уж тем более, Европа, но и уничижительные истории о «бедных и несчастных славянах и албанцах» мне кажутся скучными. Балканские сказки тем и хороши, что полны дикости, бесконечного братания и спазмов внутри сна казнённого. Валлахи, чтобы описать Балканы по-настоящему, художнику надобно уметь письмом расписать весь мир до остатка и осадка, дабы каждая капля и молекула была названа по имени; либо схватить письмом весь мир в ящик пандоры, чтобы лишь бестрепетный или параноидальный смог в него войти без остатка и осадка, а после увидеть бескрайние дали. Получится ли это у меня? Аллаху известно лучше. А сейчас — лирическое отступление.


В чём разница между этими фотографиями по-настоящему? Последние три — это работа казахского художника Саида Атабекова «Молитва тысячи всадников» из одноимённой выставки Саида, что проходила в самой дорогой галерее Алматы в январе 2025-го года. Первая — это фотография времён войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995), которую вряд ли можно выставлять просто так в галереях современного искусства. Но в чём их принципиальная разница? Почему что-то из этого искусство, а что-то — документ?
Где-то читал, что Бродский — но моя память может играть против меня — говорил, что Пастернак заканчивает стихотворение там, где его нужно начинать (Скажем: «Жить прожить — не поле перейти»). Леонид Аронзон же, другой прекрасный петербургский поэт, начинает и поддерживает стихотворение там, где Пастернак заканчивает — на уровне возвышенностей духа или аффекта, или вообще какая разница чего. То есть, с восторга и вершины начинает стихотворение, и в дальнейшем пытается пробить стратосферу, как пальма пытается пробить стеклянный потолок (буквально) в рассказе Гаршина. Переводя это на язык фотографии, то весь цикл Саида построен на «вершине» кокпара, самой «вершинной» его части. Фотография построена не на столкновении со степью реального и физиологического (на самой игре), а она концентрируется на бата, на дуа, то есть, на молитве перед игрой. То есть, вообще-то, на обращении к Богу как вне-реальному, к смерти, к иному перед столкновением с максимальной интенсивностью жизни. Тысячелетиями всадники молились перед смертью, подготавливали себя к ней и к ней обращались. То есть, каждый из всадников на фотографиях — это «в игровой форме воспроизведенный», готовящийся к шахадату, к самопожертвованию, к смерти, воин. Это игрушечная смерть, маленькая смерть (в другом смысле, не в том). Это игра в смерть, игровая смерть. Хотя кокпар безопаснее, чем военный поход — это тот же ритуал, и его аффективность вместо со смысловой глубиной рождена из мужского обращения к смерти. Великая удача, что получилось поймать этот момент и распознать его, и «захватить». Символический захватить этот многовековой символ. Хотя Сонтаг могла бы написать многое о том, что это превращение личного переживания в зрелище, но можно было бы парировать тем, что это военное дуа, и это, напротив, превращает скоротечную картину в эмблему щита, в боевое знамя. Но это уже совсем другая история.
Другое дело, что, выражаясь уже языком Барта, мне дороги эти фотографии тем, что они состоят из сплошного пунктума (для меня). Из-за того, что всё самое важное здесь — это не изображенное, а обращение к тому, что не может быть изображено (к Богу). В этом смысле, это даже ультра халяльное искусство получается. Но для большинства, полагаю, пунктум — это надписи. Эдакое вторжение профанного в нечто исконно-посконно традиционное. Но даже оно не может нарушить аффективность «сакрального» (то есть, исламского сакрального, отличного от христианского).
Однако я так и не ответил на свой же вопрос — где же тот момент, когда фарш становится плескавицей? Конечно, я не вчера начал читать книги, я помню всё про контекст, подтекст и авторский взгляд, но я всё же прошу вас проследить за мной вглубь Дуная моей мысли. Первая фотография — это искусство, потому что у этих фотографий есть авторский взгляд. Взгляд художника, который замечает что-то примечательное и необычное. Замечает либо на приколе (Дюшан), либо настолько сентиментально серьёзно, что хоть жабры рви. Скажем, у моей коллеги, уйгурки-художницы Руқии Фархадовой из коллектива «Султан Қизлар», была инсталляция «Я полюбила галимую уйгурскую попсу только после смерти моего буви [деда]», которая представляла из себя телевизор, на котором воспроизводится несколько часов клипов отборной синьцзянской попсы нулевых годов. Из личного архива Руқии — точнее, её покойного деда, который собирал эти DVD-диски несколько лет и даже умирая от рака, продолжал глядеть в эту сладкую мглу экрана, желая почувствовать свою сопричастность собственному этносу, который переживал апокалипсис так же, как и он в этот момент. Следом, в своём предваряющем работу тексте, она говорит, что эту глупую сентиментальность должны ощутить и мы, ведь это музыкальные клипы из тех времён, когда мир ничего не знал об уйгурах, и мы обитали в собственной абсолютной неизвестности, в судьбе, как об этом говорил мой друг и коллега, покойный Шамшад Абдуллаев. Он вспоминал фильм Брессона «Вероятно, дьявол» — где есть кадр, в котором рыбак поймал рыбу и бросил её на берег, и эта рыба, выброшенная из своей естественной пустоты в мир человечий, умирает. Эти клипы — это такое окно в то уйгурское потерянное прошлое, которое смогла разглядеть Руқия.
В случае работ Саида назовём это попыткой запечатлеть «игрушечную смерть», которая воспроизводит ритуал подготовки к смерти настоящей. «Игрушечная смерть» — это необычно и «художественно», а настоящая (в фотографии с боснийскими солдатами) — это обыденно. Муслимы читают молитву перед боем. Ничё такого. Муслимы постоянно же воюют. Максимум интересно, что они белокожие европейцы и безбородые, а так — ничего удивительного.
Конечно, я понимаю, что это всё софистика, риторика и т. д. Конечно, мне не хотелось, когда я ехал на Балканы, мыслить и смотреть на них только сквозь призму их войн — я могу предположить, как это бывает неприятно. У украинцев даже есть мем: «Ukraine mentioned (not in the war context)». Но, во-первых, мир катится к Третьей Мировой, а я родом из той ещё пороховой бочки Азии, так что конечно меня безумно интересовал их опыт Гражданской войны, которую даже не нужно выискивать — она сама тебя находит. Как чёрные кирпичи в центре Дрездена — которые повсюду — ещё помнят тонны сброшенных на них бомб, так и гуляя по главному проспекту югославского Сараево надо иметь выколотые глаза, чтобы не увидеть следы от пуль на зданиях. Также и в Белграде в центре города все ещё стоят руины разбомбленного здания генштаба, которые оставлены в неизменном, со времени бомбёжек, виде в качестве мемориала. Юный таксист, что меня подвозил от ЖД вокзала до дома моих друзей в Белграде, когда узнал, что я был в Албании и мне там понравилось (я сказал, что они были гостеприимны ко мне, но я понимаю, что я не серб, конечно), выбросил что-то в духе: «Йебана майка, ясно — ненавижу албанцев, никогда туда не поеду». Хотя бы и мне не стоило этому удивляться, ведь это очевидные пост-военные общественные синдромы, но как этому не удивляться каждый раз? Хотя в Центральной Азии хватает бытового (и не очень) расизма в отношении много кого (не будем показывать пальцем, я как уйгур знаю о чём говорю), всё же на риторическом уровне люди стараются поддерживать некоторый миф всеобщего братства — религиозного или тюркского. Конечно, я осознаю потенциальную опасность пантюркистского проекта, вырождение его в ненависть ко всем остальным, кто отличается от тебя по языку или религии, но я пишу этот момент ещё в той точке, где мне не стыдно себя называть казахом, петь «Я — казах» (классику казахского рэпа) публично и т. д. Дай Аллах, это продлится подольше.

В отличии от Балкан, чьи мемы, как известно всем погружённым в тему людям, стоя’т на трёх китах: военных преступлениях, ксенофобии и нищете. И в то же время и в этом можно найти благо, хотя и надо уметь это благо увидеть. Жижек говорил, что с началом межэтнических напряжений в Югославии, первое, что попало под нож грядущей гражданской войны — это умение «неполиткорректно» пошутить над этносом чужим и, соответственно, своим.

С другой стороны, какой künstler в Казахстане не задумывался над тем, как бы он относился к российским своим друзьям и коллегам, если бы его дом бомбили? Очевидно, весьма негативно, потому что бомбы уже четвёртый год падают на украинскую землю.
Тем не менее, я сейчас здесь в первую очередь как писака, а не азиат. Важнейшая идентичность для любого пишущего — это принадлежность к смертному человечеству. К тому человечеству, что однажды сгниёт. Как сказал мне в интервью коллега и друг, покойный Шамшад Абдуллаев, важнейший из писавших по-русски ещё недавно: «Нам дозволено лишь сохранять ненужность нашего литературного подполья в мире идеологических искушений». То есть, в письме важнее всего помнить о том великом дне, неважно, на больничной койке, от бомбы под обломками крыши или от ножа нечестивца; когда Прекрасная Россия Будущего, правильные моральные установки, этика, Казахстан 2050, тактичный и политкорректный язык, небесный или земной Иерусалим — когда всё это будет неважно, а будет важно то, что: «Ich sterbe». Об этом я думаю, когда пишу стихи. Об остальных идентичности я думаю, когда я уже написал стихи, либо когда я не могу писать. Благо, Балканы — это сказка, и там это всё происходит с тобой вопреки твоей воли. Всё сверкает, и никогда не кончается.
II. Черногория, турецкие крепости и полевые командиры на пенсии.
Моё путешествие по балканским снам началось с Герцег-Нови — я гостил у своего друга, куратора Игоря Зайделя, его жены Анны и их новорожденной дочери Марии. Игорь оказался в Черногории 15 лет назад, когда его отец вдруг позвонил ему в Германию и сказал, что купил себе дом в Герцег-Нови. На вопрос где это находится, тот ответил: «Едешь до Дубровника, а там повернёшь направо». Это была наша третья с Игорем встреча за жизнь, потому что первая была в Алматы (где тот выставлялся) 5 лет назад, а вторая — в Берлине в начале июля (на Балканах я очутился в середине октября). Воистину, есть места в мире, где нужно оказываться почти случайно, и тем они приоткроют тебе, как случайному путнику, какой-то свой скрытый гений места, который местным и туристам недоступен.

«Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», — кажется, эта строка Бродского является каким-то аксиоматическим идеологическим утверждением тех, в общем, многочисленных по балканским меркам, российских эмигрантов, решивших перебраться в этот милый городок, в котором самое древнее (как много в каких балканских городах ещё) — это турецкая крепость и центральная церковь [слышите «цоканье» фразы?]. Однако эта приятная окраинность, что делает город живым, обманчива. Игорь мне рассказывал, что именно здесь прожил свои последние годы жизни Иосип Броз Тито, а за ним сюда переехала неплохая часть югославской номенклатуры дабы быть поближе к телу. Правительство третьего правителя Европы жило в домиках, выходящих на Адриатическое море, и писало законы, сидя на деревенских балконах, постоянно держа во рту дрянные сигареты (курить на Балканах — это национальная традиция, они курят везде) и бесконечно попивая кофе из джезве/турки в городе, в котором кур кормят виноградом, а улочки вечно то подымаются вверх, то опускаются вниз, рифмуясь с волнами моря, лежащего совсем-совсем рядом. Воистину, истинно балканский сюжет. «Осень патриарха», только написанная Господом. Если вы захотите воплотить эту задумку, то хотя бы скиньте ссылку на итоговый материал!

Также в свой первый день на Балканах я узнал от потомицы русских аристократов (и такие там бывают), что в нескольких километрах от меня живёт Фёдор Сваровский, один из лучших поэтов русского языка, к которому можно прийти в гости, что я, с большим восторгом и сделал на следующий же день. Ваня Бекетов, мой друг, поэт и безумец из Алматы, просил Фёдору передать, что мы его очень любим. Сваровский же рассказывал, как мне казалось, анекдот о том, что какой-то местный чинуша невзлюбил его, потому что кто-то пустил слух, будто Фёдор никакой не поэт, а контуженный полевой командир, что перебрался из-за ранения поближе к морю. Когда я пересказал эту историю знакомым, те сказали, что хотя Сваровский вряд ли осаждал Дубровник, всякое здесь бывает… По крайней мере, в какой-то коммуне, кажется, повыше к горам в Херцег-Нови они как-то встретили чеченца, который сказал, что его сюда отправило сюда много лет назад начальство, и он не спускается почти что вниз, в город… Да и вообще, Рамиль, мы советуем тебе поехать в город Бар, на юге Черногории, близ Албании, ведь там живут наши знакомые, у которых что-то вроде гестхауса, и они тебе комнату дадут снять по-братским ценам. Кстати, они израильские дезертиры. Что они делают в черногорских горах? Дело в том, что прогрессивная Европа их обязательно депортирует в «единственную ближневосточную демократию», ведь они там сражаются «за всё хорошее против всего плохого» и выполняют за европейцев «грязную работу», как говорил товарищ Мерц, в отличии от русских. Но Черногории до них нет дела. Мало ли, что творится в их чёрных горах — црние горы спрячут всякого, кому хватит смелости добраться до вершин их гор на машине по этим лихим дорогам, по которым ездят такие же лихие балканские водилы, что постоянно курят, высунувши руку в окно, и неважно, за рулём такси или автобуса они. Ничего не может помешать балканскому мужчине покурить, кроме церковной службы или намаза. Кстати о последнем.

III. Албания, чёрные рэперы, намаз есть рыцарский ритуал и идеальное стихотворение
Больше всего на Балканах мне было интересно увидеть белых мусульман — так уж вышло, что даже если среднего жителя Центральной Азии или Кавказа сложно назвать чёрным в расовом значении (а иногда даже «brown»), русские националисты — таки в плохом смысле этого слова, — часто использовали в отношении нас слова не только в духе «чурка» и «хач», но и «черномазый» или «черножопый». Хотя и «белость» русских сама по себе, будем честны, спорна, я вырос с ощущением того, что я — чёрный, и это круто. Риз Ахмед, британский актёр пакистанского происхождения (хотя, вообще-то, его предки были бежавшими из Индии мусульманами), единственный актёр-мусульманин с Оскаром, в одном из треков своей группы «Swet Shop Boys» под названием «Half Moghul Half Mowgli» (типа: «Наполовину могол, наполовину — Маугли») поёт о чём-то подобном: «My only heroes were black rappers / So to me 2Pac was a true Paki» (или же: «Моими героями были только чёрные рэперы. / Так что для меня 2Pac был настоящим паком»). Поэтому мы, казахи, так хороши в рэпе (шутка, наверное). Из-за этого осознание того, что в этом мире есть целая нация (или даже две) белых мусульман — это было осознание существования «расовой аномалии». Не поймите меня неправильно, помимо очевидной иронии, я и сам, живя в Берлине, ощущаю собственную «расовую аномальность» как человек, у которого глаза узкие как у индонезийца, а борода — густая как у араба; так что я любя, любя. В общем, моё любопытство было удовлетворено сверх меры, и уехал я в полном восторге. В Тиране, столицы Албании, я стоял на вечернем намазе в одном ряду с парнем в кожаной куртке с бородой как у черкеса, а лицом — как у гопника с пражской окраины; в Сараево на пятничной полуденной молитве в центральной мечети я увидел столько белых людей в деловых костюмах, сколько видел последний раз лишь в бизнес-центре Люксембурга.

Ещё мне всегда со стороны казалось (и отчасти до сих пор), что Балканы — это такая инвертированная Центральная Азия, только вместо русских — турки, а вместо тюрков/таджиков — славяне/албанцы. Надо сказать, моё знание русского в купе с базовым турецким давало мне если не полное понимание сербохорватского, то весьма неплохое, но, что важнее — я чувствовал хотя и не на «кончиках пальцев» — но где-то рядом с ними, — эту «балканскую дикость», то есть, сопряжение магического, метафизического и реального. То, что принято называть «магическим реализмом», хотя, как говорил Маркес: «Для нас это просто реализм, без прилагательного». Особенно я начал это чувствовать, приближаясь к Албании.

Во-первых, в городе Ульцин, ещё в Черногории, но на самой границе с Албанией, в котором — по легенде — покоится еврейский мессия Шабтай Цви, есть мечеть прямо на берегу Адриатики: так сказать, мем из арабского твиттера, что албанцы — это единственные белые люди со «свэгом», абсолютно правдивый.

Если бы у меня спросили, во что верят албанцы, я бы восхищённо ответил: «В первую очередь — в Бога, а во вторую — во свэг».

Во-вторых, в маленькой маршрутке из Ульциня в Шкодер (приграничный албанский город), я встретил словенца, у которого жена — бишкекская кыргызка, и поэтому каким-то чудом первое, что я сделал в Албании — это обсудил с незнакомцем матч Кайрат — Реал Мадрид и алматинские пробки. В-третьих, самый распространённый иностранный язык среди взрослых албанцев — это итальянский, и поэтому не один раз ко мне после намаза подходили бородатые албанцы со словами: «Ассаламу алейкум, сеньоре». В-пятых, центральная мечеть Тираны одна из прекраснейших мечетей, в которой мне доводилось бывать. В-шестых, я так понимаю албанское желание строить огромные залы торжеств для свадеб посреди ничего, но с пальмами — очень понимаю. Албанцы действительно внутри казахи. В-седьмых, как сказал мой друг Игорь, Албания — это не Европа, и слава Богу. Албания — это скорее Индия или Китай, то есть, некоторая своя хаотичная — но внутренне логичная — система, в которой у каждого есть своё место, даже если со стороны это кажется исключительно броуновским движением людей, машин и логики. Но вернёмся к намазу.

Гейдар Джемаль (рахимахулла) говорил, что намаз — это не только литургия, основанная на кораническом тексте, но также воинский ритуал, некая форма дисциплины и акт верности. Но ещё и это — не посчитайте за богохульство — своего рода «театральное представление», полное собственной драматургии и композиции. Конечно, вообще-то сначала появились ритуалы религиозные в Греции, непременно, Древней, и это из них выросло (или выродилось, но это уже другая история) театральное искусство. Я здесь не собираюсь открывать Америку, мне лишь интересно поделиться наблюдениями. Я с детства ходил в театры, с какого-то возраста начал читал намаз (в арабском мире некрасиво спрашивать у другого, насколько ты правоверный, поэтому я также умолчу), но также в этом году впервые поучаствовал в создании спектакля и написания к нему инсценировки. Хотя литература не так далека от искусства театрального, как к искусству танца или убийства врага (не без нюансов, о которых позже), всё же, впервые в жизни наблюдать вживую, как фарш преображается в чевапи, а потом поражаться неожиданному изяществу вкуса одних кусочков и такому же неожиданному убожеству других — воистину, удивительное чувство. Наверное отцы, впервые смотря на то, что когда-то было лишь сгустком воли, чувствуют то же самое. Продолжая подобную биологическую метафору, я как тот, кто писал почти лишь стихи, рассказы, статьи и эссе, скорее ощущал себя роженицей, что вбирает в себя окружающий эфир, впитывает сгустки мировой тоски и отголоски опасной крови, а после плодоносит отдельным от себя текстом, что больше вложенных в него моих намерений — с тех пор, как мы убили автора. Скажем, идеальное стихотворение всё-таки должно быть написано так, чтобы его мог ощутить тем самым «шестым чувством» Гумилёва любой человек на свете, не знающий об авторе его создавшем ничего. Будто текст написан никем. Есть ли в мире идеальное подобное стихотворение, кроме той самой газели Саади и текста песни «Иерусалим» Тимура Муцураева? О Аллах, дай его увидеть нам. А стремиться к этому всё-таки стоит. Конечно, некоторые поэты и поэтки свои тексты размножают почкованием, и более меня вам всем известны и интересны, но мы пойдём другим путём. Именно поэтому хотя я и знаю, что бывают хорошие стихотворения, написанные в модусе «осеменителя», то есть, для чего-то, что лежит вне самого стихотворения — скажем, для пьесы, фильма или романа «Доктор Живаго», но то идеальное стихотворение для меня всё же написано в модусе «роженицы». Этому меня учил мой первый поэзии устаз или джедай, Паша Банников, когда 10 лет назад мне говорил, что поэзия — это такой способ жить, при котором данные тексты возможны, ибо поэт пишет не просто мозгом, но и всем телом, собственной «тушкой». Воистину, определения поэзии хитрее я так и не услышал за эти года. Соответственно, пьеса как литературный жанр — это жанр иного модуса. Хотя и бывают пьесы, написанные как бы в противовес традиции, «невозможные» для постановки, но театр начинался как социальное искусство, направленное на зрителя. Хорош тот театр, что помнит о том, что его искусство существует, пока на него кто-то смотрит — очевидно. Однако мне так печально всегда читать об актёрах тех времён, когда не существовало видеокамеры — словно пытаться читать поэзию на вымершем убыхском языке или пытаться понять, каким на вкус было мясо птицы Додо. Но есть ли читатель у поэзии? Думаю ли я о том, кто будет читать ту дребедень, что я пишу? Конечно, мне хочется, чтобы меня читали, не буду строить из себя чистокровного, да и кто мне поверит, но мне хватает травмированности и, соответственно, нарциссизма, чтобы желать быть прочитанным такой, какой я есть, не думая о читателе. Иногда, конечно, надо смириться с тем, что надо успеть продать собственное горе раньше, чем его продаст кто-то иной, но иногда также важно процитировать великого русского поэта Славу КПСС: «Я здесь, чтоб торговать своим, а не чужим, е*альником». А уж про скоротечность спектаклей по сравнению с литературой и про то, что тогда такое режиссура в рамках заданной выше понятийной рамки я и вовсе молчу — скажем, что хотя вербальность наших искусств должна нас роднить, как наличие почти единого языка в Югославии, тем и страшнее невидимая гражданская война между искусствами. А всё-таки, причём здесь намаз, указанный в начале? Ещё немного лирических отступлений, будьте милосердны, дорогой читатель, вы будете награждены за терпение.

IV. Сербия, смех дзанни, связующие нити, Анна Кин и расписания
В своём критическом тексте о спектакле, над которым я работал летом, наш алматинский театральный кудесник, Кеша Башинский, писал, что ему [спектаклю] не хватает стержневой линии, удерживающей композицию в единстве, а иначе это лишь упражнение в языке, демонстрирующее знание о широкой палитре художественных приёмов. Хотя и сейчас я согласен с этим утверждением (поверьте, просмотр оригинального спектакля для понимания моих дальнейших рассуждений не нужен), ведь со временем я понял, что режиссура — это удел умных, глупцов или безумных, а никак не чувствующих, порядочных или добродушных; но в другом разговоре об этом спектакле с коллегами из коллектива уйгурских художниц Султан Қизлар, я кое-что всё-таки интересное сказал. Что для меня связующая нить спектакля — это либо тело главной героини, Пьеретты, либо смех дзанни. Так как тот спектакль был некоторой постмодернистской переработкой классической комедии дель-арте, там были два персонажа (которых играли Камилла Бильданова и Ясмин Юлдашева), названных нами дзанни, которые выполняли роль физического воплощения нечистой совести главной героини, разящих ангелов правосудия. Они были видны лишь главной героине и зрителям, и соединяли её с миром по ту сторону реального, в котором её смиренно ждал любовник, с которым она не отважилась вместе выпить яду. И, непременно, смеются — очень много смеются. Тем самым смехом, полным женского коварства, ужаса, отчаяния, истерики, провокации, показного самоуничижения, страха и святотатства (в основном так смеялась Камилла). Конечно, этот смех не был прописан в сценарии, а был следствием, как и многое другое прекрасное в этом мире, избытка, то есть, абсолютно блестящего переигрывания актрисами своих ролей. Но если Миряна Йокович в фильме «Андерграунд» Эмира Кустурицы, играющая провинциальную актрису Наталью, переигрывает намеренно, исходя из особенностей персонажа, поэтики Кустурицы и балканской безразмерной чувственности, то в нашем случае это почти (почти!) нарциссическое желание то ли выпятить собственных персонажей, исключительно по пьесе функциональных, то ли нежелание попасть в ситуацию, когда актёру «нечего играть» (когда актёр явно сложнее персонажа, которого он играет) сыграло нам на руку.

Именно этот карикатурный и подлинный смех, то есть, инородный происходящей реальности звук (ведь этот смех слышит только главная героиня и зрители), вёл зрительский до-смысла-и-крови-жадный глаз от одного миража до другого, был зеркалом для главной героини, что видела в нём то свою совесть, то собственное желание крови. Как говорил товарищ Ролан Барт: «Знать, что для другого не пишут, знать, что написанное мною никогда не заставит любимого полюбить меня, что письмо ничего не возмещает, ничего не сублимирует, что оно как раз там, где тебя нет, — это и есть начало письма». Именно такой смех был в этом спектакле вне чьих-либо семантических юрисдикций (или как-то так), но дух вообще витает где хочет, снаружи всех семантических юрисдикций.
Продолжая открывать Америку, выражу удивление подобным возможностям театра, ведь всем известно, что владеют звуками одни лишь поэты и музыканты. Потому что хотя современная русскоязычная поэзия и отказывается часто от силлабо-тоники, важность звука (и звукописи как производной) как такового в ней не ослабла, а иногда даже усилилась.

Хотя это не поэзия в её привычном виде, у моей алматинской коллеги, художницы Анны Кин, была в Алматы выставка-проект «ღ» [это грузинская буква «ган», которая здесь из-за своей иконографической схожести с тем, как мы рисуем сердце], в котором было много всего, но в первую очередь записи того, как люди из числа разных нацменьшинств и не очень (я уйгур, да, я тоже нацменьшинство) произносят алфавиты своих mother tongue, материнских языков. Часто это люди, чей материнский язык не совпадает с их мейн лангуаге, основным языком. Чей материнский язык имеет сильно отличную от русской фонетику, которую они иногда произносят без колебаний, а иногда со стеснением, ведь не владеют материнским языком свободно. В этом можно вычитать / вчитать много смыслов, но мне интересно это в контексте семантики звуков или как-то так… Ща — смотрите за руками.

Раз. В оригинальной кыргызской (и не только) фонетике нет звука «ф». До того, как все кыргызы начали изучать русский, кыргызы не умели произносить этот звук. Однако их столицу, Бишкек, всё равно назвали «Фрунзе». Как это произносили кыргызы раньше? «Пурунзе».
Два. В современной русскоязычной литературе активнее всего пишут русские буквы при помощи букв из других кириллиц 2 человека: Варвара Недеогло в своей поэзии и Хамдам Закиров при оформлении визуального облика «Нерусского журнала». Уверен, они бы меня убили за то, что я их вместе поставил рядом, но не будем тут мериться угнетениями, а то я уйгур, вы ж проиграете. Поставил я их рядом, потому что я как человек, которому в русской и казахской кириллице не хватает буквы и звука на уровне моего имени, испытываю некоторую тоску от того, что часть моей, уйгурской, кириллицы используется как декорация. Что там, что там дополнительные буквы (часто, но не всегда, буду честен) — это графически-дизайнерский элемент, который, хотя и имеет свою логику и смысловую наполненность, мне кажется избыточно перформативным — в плохом смысле этого слова. Потому что.
Три. Мой псевдоним «Рамиль Ниязов-Адылджян» построен по такому принципу. «Ниязов» — это фамилия, которая появилась в моём роду с приходом большевиков, потому что мой прадед Садық был сыном Нияза. Адылджян — это имя отца. По-русски оно, вообще-то, звучит Адылжан. Однако на уйгурском его имя — это «АДИЛҖАН». «И» — читается как «ы», а «Җ» — как английская «J». Но буквы и звука «Җ», хотя он и несложный, нет ни в русском языке, ни в казахском. Для меня «Җ» — это не «ж с чёрточкой», а отдельный звук, который имеет сложный личный и социальный контекст, который я знаю как произносится и знаю, почему «Адылжан» и ««АДИЛҖАН» — это не одно и то же. Я пишу себя иногда как «РАМИЛЬ НИЯЗОВ-АДИЛҖАН» не ради какого-то непонятного якобы распада и крушения языка, а потому что это мой материнский язык.
Четыре. Именно поэтому работа Ани Кин, с которой я начал разговор о том, как много значит звук, инородный звук, хорошо это демонстрирует. Точнее, оно прекрасно схватывает, а как оно репрезентирует это не знаю. Не художник и не куратор, воздуханить, как говорят в Дагестане, не буду.
Дальше я хотел привести примеры из текстов Руқии Фархадовой и Еганы Джаббаровой / Иганэ Джаббарлы, но этот, изначально, небольшой отрывок в итоге разросся до полноценного эссе, которое было опубликовано здесь. Возьму лишь небольшой отрывок, тем более, мы слишком долго с вами пребываем в лирических отступлениях, и я до сих пор не начал говорить о намазе:
«Просьба написать вступление к новой подборке текстов моих коллежанок застала меня в чудом не разрушенном диффузией югославском вагоне времён ещё не погрязшей в гражданской войне Югославии, за 150 километров от Белграда. Было дождливое октябрьское утро, в котором Сербия за окном моего поезда казалась мне чересполосицей лесов, памятников югославской «дружбе народов» (они называются споменники) и придорожных православных храмов. Хотя приехать в столицу мы должны были в 7 утра, оказались мы в ней, в итоге, лишь в полдень — что, по балканским меркам, почти вовремя, ведь на этих землях of terrible beauty (как писал про восстание ирландцев Йейтс), ужасной красоты, расписание — это политтехнологии австро-венгерского генштаба, которым они как бы обязаны следовать, но всегда получается плохо (тем Балканы мне и дороги)».

V. Босния и Герцоговина, город моих грёз, композиция намаза и инородные звуки
Чтобы не затягивать это эссе ещё на миллион лирических отступлений, вернёмся к Сербии и Боснии, а потом и про намаз поговорим. Сейчас я, как правильный колумнист с правильной позицией за всё хорошее против всего плохого должен что-то высказать о сербском великодержавном шовинизме; об их, очевидной, вине за резню в Сребренице; о бомбёжках Югославии, которые никто не уверен, что этичны ли; но как-то это скучно, что ли… Про Белград я могу сказать лишь то, что это чудесный город, в котором люди были ко мне добры и гостеприимны. Сербские мужчины и сербские женщины действительно высоченные. Они действительно курят везде, где можно. А ещё в Белграде восхитительная мечеть. Ужасно аутентичная и приятная. А ещё там везде надписи «Free Palestine» — впрочем, как и в Тиране, Подгорице и Сараево. И каждый балканский народ видит себя в палестинцах. Не уверен, что это помогает им налаживать связи друг с другом, но буду на это надеяться.
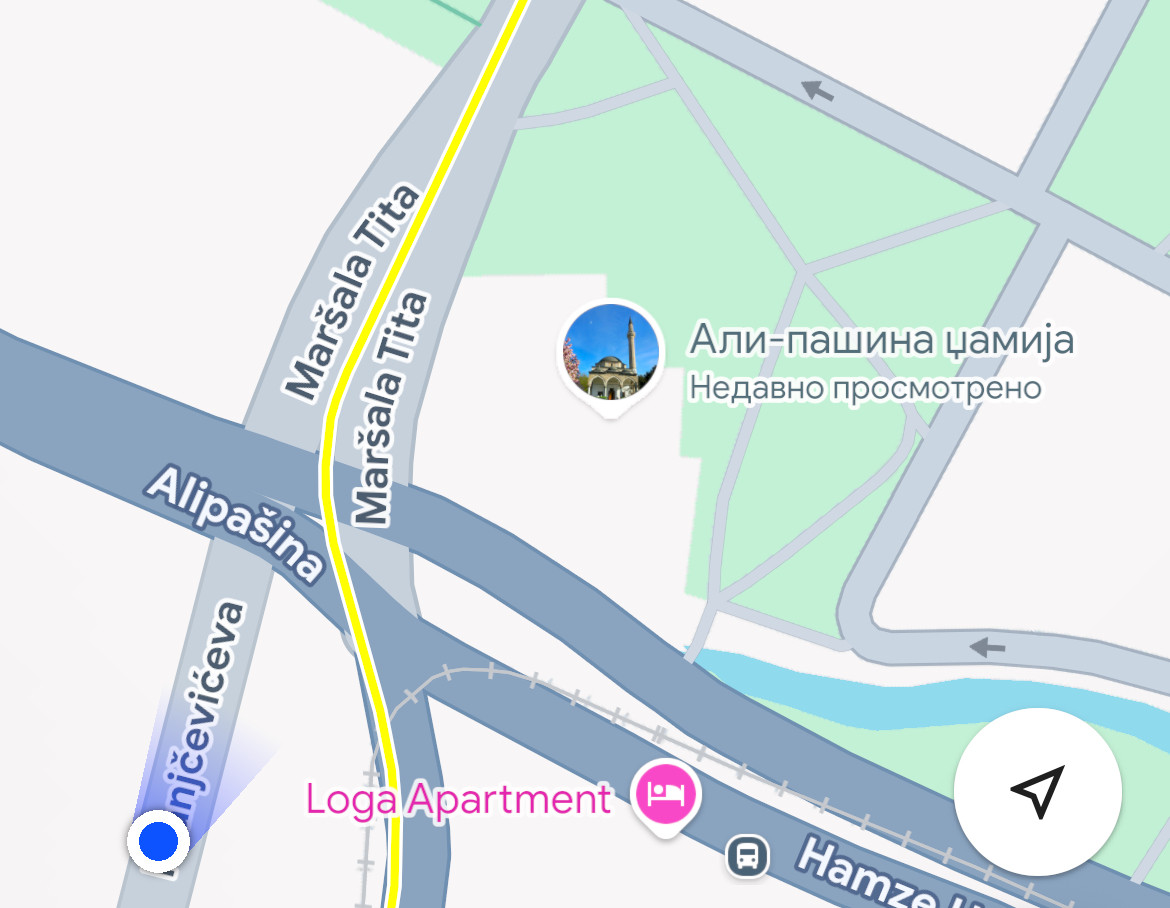
Впрочем, город моих грёз — это Сараево. Сложно объяснить почему. Я могу попытаться сказать что-то про то, что это уютное и экзистенциально жуткое (тем и чудное) соединение моих трёх любимых городов — Стамбула, Вены и Петербурга, — но всё не то. Могу сказать, что там есть граффити на стене: «Туристы — прочь, а беженцы — добро пожаловать».

Могу сказать, что самую красивую и по-аристократически изящную (и, конечно, очень высокую) женщину на Балканах я увидел работающей в галерее, в которой была выставка, посвящённая резне бошняков в Сребренице — и хотя это близко к тому, чтобы чуть приблизить вас к тому чуду от воплощения моих грёз, я расскажу другую историю.

Наконец-то про намаз! Хотя сараевские мечети редко бывают пустыми, конечно же, на самый главный пятничный обеденный намаз главная мечеть города была переполнена людьми самых разных возрастов, этносов и рас. Как настоящий турист, я безумно хотел совершить эту молитву в самой красивой мечети города, потому что за то, чтобы лицезреть час подряд эти изящные потолки, можно и выслушать часовую проповедь на непонятном для меня языке (перед молитвой идёт проповедь всегда на местном языке). Однако я не рассчитал время прибытия, и потому мне пришлось сидеть снаружи здания, во внутреннем дворике, на расстеленном моими братьями картоне.

Именно тогда я понял, чем мне дорог этот ритуал богослужения. Воистину, Велик Аллах и Прекрасен. Во-первых, это социально эгалитарный ритуал — король и его королева делают те же движения, что и нищий с попрошайкой (шииты, правда, читают намаз иначе, но это другая история). Во-вторых, имам у суннитов — это не только лишь предстоящий на молитве, то есть, человек, который лишь показывает, как правильно проводить ритуал. Это ещё и, прошу прощения за вольность моих поэтических взглядов, дирижёр тех, кто следует за ним. Ритмическое, хореографическое, композиционное единство тех, кто припадает лбом к земле с целью совершить поклон Господу, сотворяет имам при помощи инородного звука. Это мне особенно было понятно во время того намаза, ведь мы не видели того, что происходит внутри, но так как у мечети есть большие колонки, а на имаме был нательный микрофон, то мы лишь по звуку, по команде имама, по правилам указанным когда-то Богом (то есть, как бы по сценарию), падали ниц. Совсем схематично: есть моменты, когда имам говорит: «Аллаху Акбар» («Бог велик»), — после них следует совершить то или иное действие. В моём примере — упасть лбом ниц. Так создаётся та краса единого порыва — при помощи направляющего и команды следовать за ним. Почему я называю это «инородным звуком», хотя все произносимые в нашей литургии слова — это понятные арабские слова? Потому что, конечно, большинство мусульман мира не владеет арабским языком, к сожалению, в должной мере, чтобы понимать тексты этого ритуала самостоятельно. А ещё потому, что согласно теологии, это особенные слова, ведь именно они выбраны Богом для его почитания.

Хотя многие города полнятся инородными звуками, те, что я слышал в Сараево — были для меня особенными. Здесь — азан, здесь — церковные колокола.

Здесь — памятник Абаю, хотя ближайшее к Алматы консульство Боснии находится в Москве (меня пустили по шенгену, лол). Здесь, на месте убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии, постоянно стоят туристы и фотографируются на том же самом месте, где стоят их убийца, Гаврило Принцип, взводя пальцами воображаемые пистолеты, делая воображаемые звонкие выстрелы.

Здесь — вонь от тел мёртвых любовников из стихотворений Горана Симича, важнейшего, переведённого Андреем Сен-Сеньковым. Здесь — следы от пуль на «Аллее снайперов».

Здесь — подвалы, что ещё помнят, где играли лучший пост-панк Югославии. Всё это слышно, если прислушаться к Сараево. Не город, а сплошной, как бы сказал товарищ Барт, пунктум.
VI. Балканы — это будто всё по-настоящему
На Балканах хорошо и бедно жить, и иногда хорошо и жутко умирать, ведь там всё будто по-настоящему. Там так много жизни, что ей постоянно власть имеющим приходится манипулировать, чтобы держать её в узде. А она, эта жизнь, так жива, что постоянно этим манипуляциям поддаётся. Но это всё неважно. Балканы — это сказочная сказка, ужасный ужас, сказочный ужас и ужасная сказка. Её лишь хочется прожить до конца. Ужасный век, гениальные люди, загадочные и гремящие на всю Европу сердца. Да будет счастлив всяк, кто отважется заглянуть внутрь тоски — особенно балканской.
Последнее стихотворение из цикла: «Все мои родственники, когда сходили с ума, вспоминали синьцзянский диалект». Вторая часть триптиха
(Балканская сказка, в которой вам постоянно врут)
Моей девчонке
I. Почему тебе снится Сараево?
Моего двадцатиюродного брата Юсупа осудили на 4 года на Международном трибунале по бывшей Югославии как военного преступника — но не в реальности:
не в той, где я с вами разговариваю, а в той, где сны хватают его в плен и очень долго пытают, как будто Юсуп располагает важными донесениями — из реальности, из пробуждения, из яви. Он так рассказывал. Показания не точны.
Дело в том, что последним из безумных родственников моего рода был Юсуп — самым последним и самым безумным.
Вы спросите: Рамиль-әпәнди, ты уже рассказывал нам о деревенских конокрадах, партизанах-дураках, солдатах, падишахах и принцессах, королях и султана дочерях, о партизанках-диверсантах — куда ещё безумнее, әпәнди — разве нет уйгурскому безумию предела?
Во-первых, нет — мы проверяли.
Во-вторых, я ещё не рассказывал вам о военных преступниках.
В–третьих, дальше всех продвинулся Юсуп — я пристрастен к коллеге, простите.
В-четвёртых: потому что Юсуп был поэтом, но только во сне.
В том времени или месте, что он называл явью, он не вправлял изящно слова в тело текста (и не вгрызался в него, и плохо понимал, откуда тело у текста), не читал стихи, не цитировал стихи, не запоминал стихи и говорил трепетно — так же тщательно выбирая слова, как тщательно балканцы в массовых могилах перебирали остатки тел в поисках того самого, — чтобы, не дай Аллах, не случилось подмены. Чтобы там не оказалось метафоры. Юсуп говорил чётко и прямо, Юсуп завещал нам: «Метафоры — от Иблиса. Аллах даровал нам язык чистым и ясным, а после велел Иблису соблазнять людей и превращать их в поэтов».
Мы же вопрошали: «Товарищ Юсуп, а как же Священный Коран?», — и он отвечал: «Там всё — как оно есть на самом деле. Там всё — взаправду».
Но всё ненадолго менялось, когда он только просыпался. 4 минуты после пробуждения он говорил только стихами. Только по-уйгурски. По-уйгурски, как вы уже поняли, на синьцзянском диалекте — если быть точным, то на кульджинском. И что-то во сне постоянно случалось. Геноцид, резня или развод. Формулировки расплывчаты.
В первый раз он рассказывал:
«Я родился в Сараево, я расчленён и на органы сдан был в Сараево —
но это был не город, а два длинных кривых коридора в разные стороны,
похожий на шею двуглавого лебедя серебристого цвета, из каждого
горло которого торчит спусковой крючок,
и куда бы я не пришёл,
я приду к себе в гости, будто я не смогу
не прийти.
Потерять себя в зажжённой спичке,
брошенной в бумажные кирпичики югославских
домов и не прийти — в дом с чёрными ставнями и
чёрной тяжелой оловянной дверью посреди Сараево,
чьи окна выходят на стеклянную замёрзшую реку, — у меня ничего не выйдет, ведь она встретит меня у главного входа,
где даже сам апостол Пётр присягнёт у чёрных врат, чьи крылья раскрываются во все стороны…».
А дальше — на 4 минуты замолкал, садился и закрывал глаза. Мы спрашивали: «Кто тебя встретит, Юсуп, у главного входа?». Лишь 4 минуты спустя Юсуп отвечал:
— Где?
— В смысле где — в Караганде. В Сараево.
— Но я никогда не был в Сараево.
— Ты только что рассказывал нам про сон, в котором ты родился и умер в Сараево.
— Мне больше не снятся сны. Хватит мне врать. Я никогда не видел Сараево.
Юсуп вставал, собирался и шёл на работу, на прощанье говоря то же, что и всегда: «Я не сопротивлялся злу делами, но хотя бы душа моя лишена дьявольских слов. Если Аллах захочет, чтобы я умер завтра, ин ша Аллах, я скажу: «Аллаху Акбар», — умирая. Будь рядом, брат, когда я буду умирать — дай Аллах, это будет тебе полезно».
Юсуп уходил из дома на работу. Говорят, он был бухгалтером — мы не проверяли. Он был скучноват в реальности. Приходя с работы, Юсуп заявлял: «Цифры лучше людей. Не потому, что цифры не насилуют военнопленных, а потому, что цифры — подлинны. Цифры не знают метафор. Моя любимая цифра — 8. Я бы хотел жену, как цифра 8. С бесконечной, то есть, бессмертной душой, и двумя отверстиями, из которых невозможно вырваться».
Как-то пошло, вы не находите? Поэтому я никогда не говорил с Юсупом, ведь вульгарной поэзии мне хватает в реальности. Конечно, Аллаху известно лучше, кому даровать безумие, то есть, талант, но воистину моего мозга на познание Его замысла не всегда хватает.
II. Почему тебе снится Сараево?
Во второй раз он продолжил с того момента, на котором остановился:
«В Сараево зима, но она не такая, как у нас — гвоздики и чёрные чертополохи осаждают город,
в котором я вырос; здесь мы делили кофе и ракью, а здесь –
чьих-то дочерей, пока политрук звал нас спасать чьи-то бессмертные души,
и говорил даже, что наши, но мы не верили –
даже когда клялись, что гражданская война будет для наших детей.
Мы крали иконы и портреты вождей, чтобы покупать
нашим женщинам почерневшие от гари медные кольца с чёрными бриллиантами,
чтобы они были нам зеркалами для тела зимы, но те в ответ лишь ехидно
улыбались и спрашивали, когда начнутся пределы наших небес,
кто первый возьмёт в руки нож — я, он или он. Тогда я пытался бежать
прочь из Сараево туда,
где покинутые паруса
с побережий наших озёр не прорастут артиллерией
для дробления чьих-то семейных склепов.
Как бы мне не хотелось, потерять себя
и не прийти — в дом с чёрными
ставнями и чёрной тяжелой дверью посреди
Сараево, чьи окна выходят на стеклянную
реку, по замерзшей поверхности которой закипают
каждый день новые лужицы крови, у меня ничего не выйдет,
ведь она встретит меня у главного входа, где даже сам апостол Пётр присягнёт у чёрных
врат,
чьи крылья раскрываются во все стороны, и только глаза её,
похожие на две луны, лишь одна из которых,
является подлинной, будут видны…».
А дальше снова — на 4 минуты замолкал, садился и закрывал глаза. Мы пытались опять разузнать, какого чёрта малограмотному уйгурскому бухгалтеру, который никогда не выезжал дальше Алматинской области, снится Босния и Герцоговина, но Юсуп был непреклонен. Лишь ещё 4 минуты спустя Юсуп отвечал: «Я не видел городов, кроме этого; не знал языка, кроме этого; не знал себя, кроме того, что отвечает вам. Идите прочь, мне надо считать цифры, ведь они напоминают мне о том, что я люблю больше всего в этой жизни — Бога и мир, в котором Иблис прельщает лишь поэтов и танцоров. Нет людей, ненавидимых Аллахом больше, чем поэтов и танцоров. Моя любимая цифра — 3. Она напоминает мне об Айнурке из соседнего офиса, у которой такая же чёткая линия губ, когда она улыбается».
Что же, это было лучше, чем в прошлый раз, вы не находите? По крайней мере, я ожидал от него другого сравнения — всё-таки, видеть во сне собственные органы делает мужчину лучше.
III. Зачем тебе снится Сараево?
В третий раз (кстати, как часто он повторял прошлые разы? Сложно сказать точно, несколько месяцев он вспоминал только первый сон, потом — второй, а потом — опять первый… Вас точно волнует достоверность моего пересказа?) он наконец-то всё нам рассказал:
«Сараево — это всадник чужих снов, но я бы предпочёл,
как любой уважающий себя солдат или убийца, вырасти в долине фарфоровых грёз
перед тем, как жизнь гвоздями прибьёт винтовку к моим рукам.
Я вылез к ней из чёрных туннелей зимы, сказав, что я разрушен давно на всём этом пути,
моя рубаха разорвана временем,
и она ответила, что я не достоин больше глядеть в её
тело, бывшее зеркалом для тела весны;
в её глаза, источающие порох чёрный порока и белый огонь греха,
похожие на две луны, лишь одна из которых является подлинной;
в её руки, бывшие потерянным алфавитом нашего народа;
и в её ноги, которыми она разбивала хрупкий фарфор моего одиночества.
Я спросил: «Почему мы выжили? Давай встретимся снова
за пределами этих серебряных стен –
в месте, которое не нанесено на карту».
Но она ответила, что наше небо
не отпустит нас. Чёрные двуглавые лебеди
окружают меня.
Ты не даёшь мне забыть гарь порока моих глаз.
Возвращайся домой, войди в эту дверь — дай мне себя потерять,
и найтись в руках
слепого нечистокровного кузнеца с искажённым лицом. Всё он занят отливаньем пули,
что тебя с землею разлучит. Разве ты
не помнишь ещё свою смерть?
Я сказал, что не помню. Я ничего не помню…».
Когда Юсуп закончил третий сон, мы долго сидели молча, будто пытаясь что-то вспомнить. Нельзя было вспоминать. Мы пытались спросить, но Юсуп опять закрыл глаза — и на этот раз не на четыре минуты, а на восемь! Мы от страха уж пошли за имамом, но тут Юсуп заорал:
— Страх — это метафора. Я бы иголкой завязал ваши рты, а потом и собственные губы, но это против воли Аллаха… Я пытаюсь вспомнить…
Он открыл глаза так, как открывают тот ларец, в котором мыслей жемчуга. Простите за цитату из Низами, Юсуп меня заражает.
— Юсуп, ты уже трижды рассказывал нам про войну в Югославии. Ты знаешь, как далеко от нас Босния? Ты знаешь, что ты единственный человек в Казахстане, у которого во сне безвиз с Боснией?
— Ложь. Мне не интересна чужая гражданская война. Сны не повторяются. Это люди повторяются. Моя любимая цифра — 2. Если показывать её руками, то она как раздвинутые ножки Айнурки из соседнего офиса. Через них, дай Аллах, однажды проснётся ото сна предвечности наша дочурка. Почему-то я хочу назвать её Зулейха…
И снова ушёл на кухню, чтобы считать свои цифры, но мне показалось, что в их написание пробралась какая-то порча: восьмёрки оборачивались глазами, похожими на две луны, лишь одна из которых является подлинной; двойки — погнутыми шеями птиц, а троек он избегал. Троек он избегал. Трижды мы не повторяем.
IV. Зачем тебе снится Сараево?
На этот раз Юсуп начал первым:
— Мы обвенчались с Айнуркой. Это был метафизический разрыв души. Лучший день моей жизни. Но в нашу брачную ночь мы ничего не смогли друг с другом сделать. Я смотрел в её глаза и почему-то увидел в них луну, лишь одна из которых является подлинной. Я испугался. Тогда она сказала, что я ей не муж, ведь я ошибся с выбором луны. Я разок моргнул, и её не оказалось возле меня. Я позвонил её матери. Она спросила, откуда я знаю её сны. Её дочь умерла при родах много лет назад. Я бросил трубку и посмотрел в зеркало. Я был похож на себя, но чего-то не хватало, каких-то органов. Насчитал нехватку семи, включая сердца. Моё отражение посмотрело на меня и сказало, что мы встретимся в Сараево — там, где начинаются наши сны. Там меня ждут на допрос.
— Хорош, хорош, красивый сон, брат мой, мне нравится, как метафоричность твоего языка растёт с каждым сном! Жаль, я не пытался их записать, вышел бы красивый поэтический сборник. И что же ты сделал?
— Уснул.
— Думаешь, я тоже тебе снюсь?
— Это допрос?
— Ещё нет.
V. Тебе все ещё снится Сараево?
Рамиль стоит у главного входа,
у чёрной тяжелой оловянной двери посреди
Сараево, где даже сам апостол Пётр
присягнёт у чёрных врат,
чьи крылья раскрываются во все стороны, и только глаза его,
похожие на две луны, лишь одна из которых
является подлинной, а другая — цвета не свёртывающейся крови, но я никакне пойму, где настоящая; я стою на коленях перед двумя андрогинами,
с разного размера глазами; с ятаганами, прикованными цепями к их рукам
и пистолетами, торчащими из их глоток –
одна говорит на сербохорватском, а другой — на боснийском.
— Тебе все ещё снится Сараево?
— Мне всю жизнь снится Сараево, ведь я должен увидеть тех,
кто не смог проснуться –
кто остался там, в городе, окружённом стеклом. Брат
разве не сторож брату — в те несколько мгновений от начала нашей общей истории,
когда Каин не убил ещё Авеля, а ворон не показал, где
зарыть труп и не транслировал это в инстаграм
на сотни тысяч человек?
Каждый из них протыкает моё сердце своим ятаганом, но
там уже ничего нет. Мои органы были отданы тем, кто идут
на поминки свободы. Рамиль открывает чёрную дверь,
из которой выходит она. Я вспомнил, что её
зовут Зулейха.
Зулейха сидит на инвалидной коляске, сделанной из такого тёмного дерева,
что оно пило свет; такого гладкого что в нём отражается наша стеклянная река,
по замерзшей поверхности которой закипают каждый день новые лужицы крови;
не прикрывая платком свои бледные ноги, она смотрит в то место,
где была когда-то моя рубаха, а её сиделка –
слепой кузнец с искажённым лицом, переливающий
в неё свою кровь, что не свёртывается.
— Тебе все ещё снится Сараево?
— Некоторые вещи нельзя спасать.
Некоторые — можно только пересчитать.
Моя любимая цифра — 7. Есть семь небес и есть семь органов, которые можно
пересадить тому, кто придёт на поминки нашей свободы,
на поминки нашей гражданской войны.
— Тебе придётся вернуться домой. Трижды ты уже
проходил мимо, и трижды тебя спасали твои безвольные глаза.
Но в четвёртый раз тебе придётся открыть эту дверь и проснуться от кошмара —
я освобожу тебя от кошмара, мой милый брат.
Твоя агония — это твой триумф.
Рамиль щёлкает пальцами, и андрогины вынимают из меня свои ятаганы,
и преклоняют предо мной колени. Я хватаю того,
что был справа за горло — механизм мне известен давно:
если сжать солдатский кадык, то будет выстрел. Я это делал
не один раз.
Рамиль был чуть изящнее — его рука протыкает андрогиново горло насквозь,
и хватает спусковой крючок.
— Разве ты не хочешь проснуться, Юсуп, мой брат? Каждый из нас ответит перед международным трибуналом за то, что слишком сильно хотели любить.
— Я не позволю никому красть мои сны.
Я помню, я слышал два выстрела. Что было дальше я не запомнил.
VI. Тебе всё ещё снится Сараево?
В четвёртый раз Юсуп перестал говорить стихами. Он лишь сказал:
— Мне ничего не снилось в этот раз — это ошибка, которую я должен исправить.
Рамиль, то ли ничего, то ли всё понимая, спросил у Юсупа:
— Каков твой план, Команданте?
Юсуп посмотрел на него так, будто он был арифметической ошибкой:
— Завтра я усну и сделаю то, что должен.
Некоторые вещи кто-то должен подсчитать.
Но не сегодня. Сегодня у меня отчёт.
Семь договоров ждут моей подписи.
Рамиль спросил у него:
— Тебе все ещё снится Сараево?
Юсуп ответил так, будто ждал этого ответа всю жизнь:
— А тебе не снится Сараево, брат мой?
— А ты мне — брат?
— Я навсегда тебе брат. Пусть в день моего суда соберётся много зрителей и пусть они встретят меня криками братской ненависти.
Будь рядом, брат, и, дай Аллах, это будет тебе полезно.
Сказки балканских полевых командиров о войне и разводах: подобие комедии дель-арте. Третья часть триптиха
(Данная мини-пьеса была написана специально для алматинской арт-вакханалии «Драмарафон». Раз в несколько месяцев біздің жазушы Ольга Малышева придумывает смешные ограничения для драматургов — лишь написав пьесу, соблюдая все эти правила, драматург удостаивается почёта: его пьесу прочтут на сцене алматинские театральные актёры. Как и пьесы всех остальных, кто сможет написать подходящую пьесу. В этот раз было ограничение на количество знаков. Поэтому моя пьеса столь миниатюрна. Однако представленный ниже вариант — слегка расширенный, а потому отличается от того, что я прислал Оле)
Герои:
Црний, серб. Будет осуждён на пожизненное за резню бошняков.
Перхан, бошняк. Будет осуждён на 25 лет за резню сербов.
Сатана.
Гаага. В СИЗО Трибунала по бывшей Югославии подозреваемые в военных преступлениях ужинают вместе, за одним столом, пытаясь не говорить о политике. Такое действительно было. Диалог ниже — попытка представить, какие разговоры могут вести ветераны гражданской войны.
Црний
Еби ме у дупе триста турков на Косовом поле, Перхан, маймун бошняцкий, мать твою фашистскую, не врёшь?
Перхан
ДА БИ МЕ ТИТО УЧИНИЛ СВОЕЮ КУРВОЙ, АЛИ Я ВРУ! КЛЯНУСЬ АЛЛАХОМ… Ну не встал…
Црний
НАСИЛОВАТЬ СЕРБОК ХУЙ СТОЯТИ, АЛИ РАЗВОД СЛАВИТИ — НИ? Ебеш ти губитник, ХА-ХА.
Перхан
ЦРНИЙ, ДРЬМО СЕРБИНО, АЛИ РАЗОК БЫ ТЫ НЕ НАШИХ БОШНЯЧЕК СХВАТИЛ, А СМУЛЯНКУ-АЛБАНКУ…!
Црний
Ако, мы в тюрьме оба сгноим…
С
Мы не говорим о политике.
Перхан
ПЕРЕВОЛНОВАЛСЯ Я!
Црний
ТЫ-ТО?
Перхан
Души нет у вас, у неверных, не поймёте вы нас никогда!
Црний
БРАТ МОЙ, МЫ ОБА В ГААГЕ, АЛЁ. Устроили друг другу гражданскую войну, а щас нас судят иностранцы.
С
Мы не говорим о политике.
Црний
Я жду продолжения истории, Хюррем-султан!
Перхан
И У ПОЛЕВЫХ КОМАНДИРОВ ТОЖЕ ИНОГДА НЕ ВСТАЁТ — мы не киборги. У меня не встал, потому что е*аться с проституткой после моей жены — это как совращать девчонку. Сколько блистательного порока и греха было в моей жене, ах, вы бы знали. Вы думаете, это я достоин Гааги — о, вы не знаете громокипящее и безумное прошлое моей жены. В её глазах горел тот же огонь, что гореть будет для нас в аду. В ней было столько соблазнительного разварата, сколько я не видел на войне. Я так её любил. А та албанка? Просто ноги раздвигает за деньги. После этого я записался в солдаты. Если нет любви, значит всё дозволено.
Црний
Чё ж вы развелись?
Перхан
Она захотела быть с менее породистым кобелём. Кто не безумец или не гений — кто не сможет увидеть гарь порока в её глазах.
Црний
Не везет в любви — зато в смерти повезло. Я записался на фронт, потому что ваша ракета убила мою жену. Если есть любовь, значит всё дозволено. Твою жену звали Сара?
Перхан
Да…, а откуда ты знаешь?
Црний
Я ж земляк твой… Она рассказывала — теперь-то я узнаю тебя… Христос свидетель: украденная страна не сделает тебя счастливым. Ни в этом, ни в 2026-м.
Перхан
Мы же не говорим о политике?!
С
Ну что: хорошая вышла гражданская война, да, братья? (Ко всем) Хорошая сказка, да, коллеги?
Перхан
Не везет в любви — зато в смерти повезло. Да, брат мой?
Црний
Воистину, брат мой.
Перхан
мы — народ богоносец
Црний
мы — народ победитель
Перхан
будем резать друг друга
Црний
а вы поглядите
Перхан
как мы режем друг друга
Црний
за всеобщее счастье
Перхан
и последний из нас
Црний
перережет запястье
(Црний и Перхан поют припев два раза и танцуют под «Калашников» Горана Бреговича. Счастливы — все, без исключений. Исключений не будет).
