12×12. Ноябрь. Выбор Виталия Шатовкина
Реч#порт публикует ноябрьскую подборку в рамках проекта «Новосибирская поэзия: 12×12». На этот раз стихотворения выбраны поэтом Виталием Шатовкиным, а сопровождают их работы Зинаиды Рубан.
Для тех, кто только присоединился: в чëм суть проекта «Новосибирская поэзия: 12×12»? В течение 2020 года 12 экспертов, приглашённых редакцией, опубликуют на страницах Реч#порта подборки, составленные из самых важных, на их взгляд, стихотворений в истории новосибирской поэзии, и прокомментируют свой выбор. В каждой подборке будет представлено 12 стихотворений, написанных 12 разными авторами. Тексты, уже опубликованные в рамках проекта, не должны повторяться в последующих публикациях. Каждая публикация будет сопровождаться визуальным рядом, составленным из работ новосибирских художников.
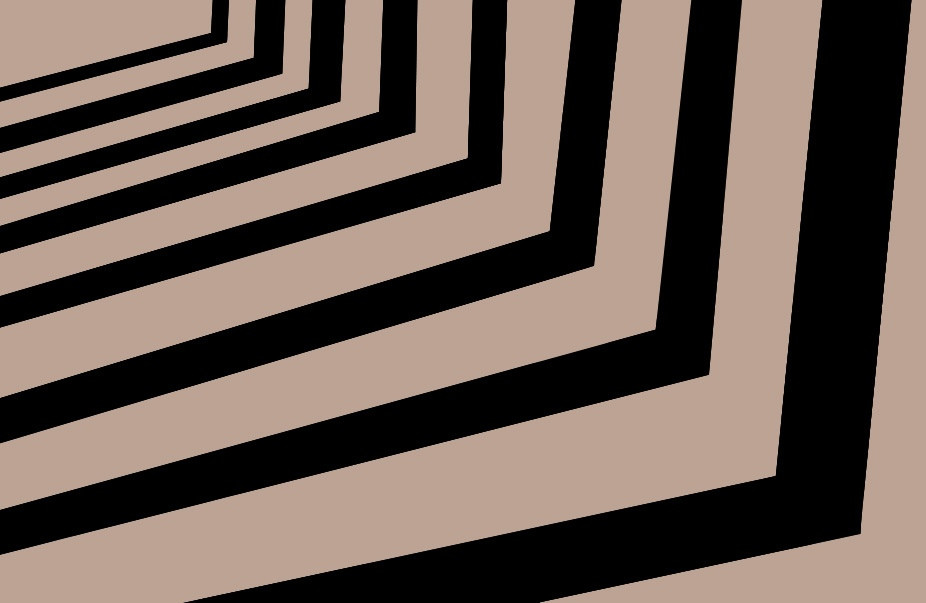
Вместо предисловия
Как таковой задачи выбрать и показать важные и влиятельные тексты новосибирской поэзии я себе не ставил. На мой взгляд, любое приближение к субъективной крайности в этом предприятии — заведомое фиаско. В процессе составления подборки для меня как для читателя на первый план вышел авторский механизм создания неочевидного текстуального объëма, в котором, вопреки традиционной и ходовой стилистике, проявляется не только новая поэтическая форма, но и новое звучание, детальность и образность, — запасной ключ к припрятанной дверце. Представленные мной авторы довольно неоднородны в своей поэтике и манере работы с текстом. Для некоторых из них поэзия лишь дополнительная ниша творческой самоидентификации, некоторые же в ней — мастера. Но, несомненно, деятельный и вполне профессиональный поэтический опыт выразить и донести до читателя, при помощи изящной словесности, нечто прогрессивное и новое в разной степени присутствует в каждом представленном тексте. Индивидуальны и истории сближения каждого из авторов с Новосибирском: для кого-то это определяющий и очевидный топос, для кого-то стечение обстоятельств, а для кого-то — очередной виток в творческой биографии. Налицо же сборная имманентная речевая структура, демонстрирующая диапазон разномасштабных величин поэтической событийности. В каждом из приведëнных текстов можно нащупать габарит воспроизводимой среды с убедительной эмоциональной глубиной и объëмом, выступающий не только внутренним натяжением и принадлежностью, но и проявленным внешним пространством: домом, страной, обиходной природой.
Александр Немировский
+ + +
Мне сказали,
что попугай
Не знает,
Что кричит гостям…
И хозяйке.
Мол, и сам не поймëт,
Что сказал,
И глазами вращает…
Я не верю!
Ведь синие посвисты
И зелëные
с жëлтеньким
перья
С
Прекрасные повести.
Отчего же словам
Мне не верить?
Заступлюсь я за попугая.
Хоть скажу,
что и сам такой.
И хозяйке скажу:
Дорогая!
И
хозяину:
Друг ты мой!
Александр Немировский — воплощение того случая, когда человеку удалось сказать лишь здравствуйте. Сказать и замереть на мгновение, наблюдая, как под воздействием текста начинает постепенно оживать и распрямляться окружающая действительность. Если и есть механизм, схожий с календарной весной, то это именно он. Мгновение Немировского волею судеб превратилось в небольшую вечность. Большая и не нужна. Из всех немногочисленных текстов, оставленных после себя 23-летним юношей, складывается по-доброму открытое желание автора объять и запечатлеть пространство с его изменчивостью, тональностями и красками без
Олег Волов
+ + +
фиолетовый ус на паркете
соус пролит на скатерть, а вы
золотая в бордовом берете
статуэтка, увы
Большинство текстов Олега Волова по принципу отложенного вступления начинают разворачиваться в тот момент, когда заканчиваются, и этот не исключение. В присутствии автора ты подходишь к обозримому художественному пространству совершенно иной однородности и фокуса, где всë, что возникает после завершения стихотворения, — твой собственный опыт. Отчасти следуя лианозовской традиции Холина, Сатуновского, Кропивницкого и других, при помощи эмоционально-колористической гаммы и бытовой детализации автор создает заведомо непредсказуемую область метапространства, где изначальный поэтический текст выступает не чем иным, как замочной скважиной в сферу читательских реминисценций. Художник Волов и поэт Волов — это прежде всего усиленная бинарная творческая конструкция для оживления и придания многомерности ракурсу узнаваемой окружающей действительности, в которой каждый читатель служит еë продолжением.

Юрий Магалиф
Монолог
…И я вошëл в тот полутëмный дом.
Рассказывали мне (а кто — не помню),
Что с домом мы ровесники. Ну, что же,
Тем более — давно пора зайти.
Вошëл…
И сразу же в прохладном зале, —
Как будто знал, что так оно и выйдет, —
Я увидал себя… Пройдя немного
И обернувшись быстро — вновь себя…
Сам на себя глядел неравнодушно
Я из углов, с простенков, с потолка,
Любуясь долго собственной персоной.
Ах, батюшки, да сколько здесь зеркал! —
Квадратных, круглых и продолговатых,
В тяжëлых рамах иль без всяких рам;
Безмерно дорогих — венецианских,
Дешëвых — из зелëного стекла…
Сначала я подумал: в этом доме,
Наверное, музейное собранье
Всемирного зеркального искусства?
Потом решил: нет, это не музей!
Здесь в затемнëнных и высоких залах
Какое-то таится наважденье;
Здесь нечто страшноватое сокрыто
В серебряном свечении зеркал.
Не странно ли, что я, собой любуясь,
Припоминаю мелкие невзгоды,
Случайные, нелепые обиды,
Что мне друзья когда-то нанесли!…
И всех врагов своих припоминаю,
Ликуя, что теперь они бессильны, —
Посрамлены, унижены публично;
А им назло, глядите:
вот он я!
Своих проступков не перебираю
И ничего в себе не осуждаю!
Но тем сильнее пред собой красуюсь
Во глубине стеклянного пространства,
Чем долее гляжу сам на себя!
Но вдруг я с удивленьем обнаружил
(Совсем не сразу — в этом всë и дело!),
Что меж зеркал развешены портреты
Людей, слегка похожих на меня.
Нет, это я похож на них!
Конечно —
Вот мой отец в своей помятой кепке,
Усталый после долгого дежурства,
Пропахший йодоформом и карболкой, —
Строчит в журнал научную статью
Или рецепт какой-то составляет…
А может быть, прикидывает: хватит
Или не хватит денег до получки?
Всë дорожает в этот чëртов нэп!…
Вот мама — вечно загнанный статистик —
Спешит домой из «Сектора учета»;
А по дороге надо отоварить
Талоны на селëдку и крупу;
Два фитиля купить для керосинки;
И вечером готовить да стирать;
А в выходной поехать за картошкой
(Нелепо: раньше было воскресенье,
Теперь ввели какой-то «выходной»!).
…А в золочëной раме варшавянин
Со щëгольскими усиками — дед.
Увы! — воротничок его неглажен
И сломан козырек конфедератки:
Дед едет в ссылку, в город Красноярск.
И рядом — карточка лихой цыганки;
Ну что ей Петербург, что ей Варшава
Иль даже Красноярск?… Была б гитара,
Колода карт да бирюза в колечке,
Да был бы варшавянин рядом с нею, —
Ох, бабушка отважная моя!
…А там и прадеды, там и прабабки —
Кто в кунтуше, кто в свитке,
Кто в поддëвке:
Вон там шинель мелькнула, там накидка,
Там высунулась шляпа, там треух…
Род слишком пëстрый и не слишком громкий,
В нем полководцев и министров нет.
Но, говорят, держался он честь честью —
Не подличал, не лицемерил — он
Ценил сердечность, доброту и скромность
Превыше всяких почестей и благ;
Падением врага не наслаждался,
И в храмах тишины не нарушал…
Так что же я? Неужто все заветы,
Что шли от поколенья к поколенью,
На мне остановились, словно больше
Нет продолжения роду моему?
Как будто я уже не существую,
А может быть, и не существовал?…
Что потемнели, старые портреты, —
От бремени годов или от гнева?
Что смотрите сердито, отчуждëнно?
Иль освистать вам хочется меня, —
Подобно зрителям,
когда актëрик
Красиво говорит, красиво плачет,
Красиво падает, красиво стонет
И пробует красиво умереть!…
Куда ж девалось всë моë тщеславье?
Обидчивость моя куда пропала?
И отчего таинственно исчезло
Моë отображенье в зеркалах?…
…Стою в холодном незнакомом зале,
Держу в руке осколочек зелëный —
Осколочек без капли амальгамы;
Я на него дохнул, и он немного
Запотевает…
Значит, жив ещë!
Очень нетипичное для Магалифа стихотворение и по поэтическому устройству, и по интонационной структуре и мелодике. Этот текст, на мой взгляд, с одной стороны, выступает для автора своеобразным сателлитом и оберегом как в пространстве повседневного языка, так и в «высококультурных» слоях речи, с другой стороны, это ростовая зарубка, checkpoint, постоянно присутствующий маркер ощутимого alter ego. На фоне всего остального корпуса стихотворений данный текст более чем зрелый: доподлинной встречи с самим собой в других условиях и не случается. Проделанная внутренняя работа по скрадыванию материи оставляет довольно ощутимый привкус окалины и песка, из которого Магалиф — как каштан из огня, не боясь ни обжечься, ни порезаться, вопреки ожиданию, — вынимает прозрачный рефлектор. Безусловно, как одна из главных содержательных линий стихотворения вырисовывается, как будто бы репетицией, легко узнаваемый теологический образ «Страшного суда», но для автора куда важнее механизм трансформации и еë последствия. В итоге мы имеем дело не с ещë одним конфессиональным сюжетом, а с действенным инструментом внутренней эволюции и переустройства.
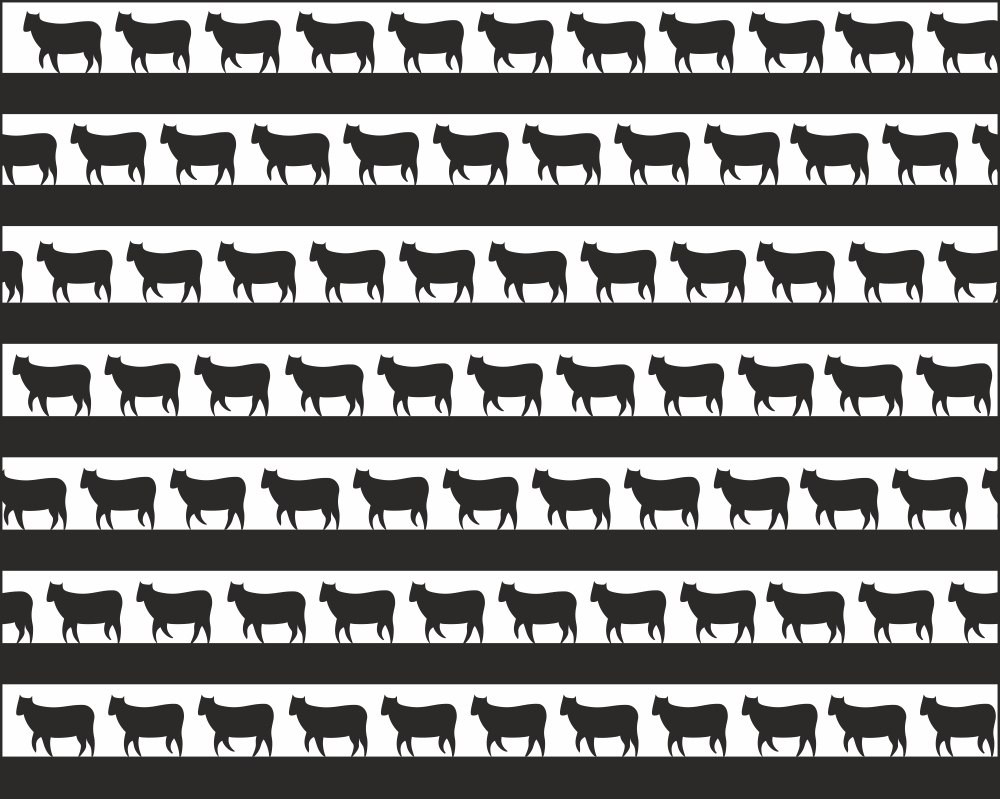
Вадим Делоне
К «Лагерным экспромтам»
Заметка вместо предисловия
Я бросил вызов Родине моей,
Когда еë войска пошли на Прагу.
Бессонницей Лефортовских ночей
Я право заслужил на эту правду.
Я бросил вызов Родине своей,
Плакат на площадь бросил, как перчатку,
Нет, не стране, а тем, кто ложь статей
Подсовывал народу, словно взятку.
И думал я, зачем себя беречь,
Пусть назовут в газетах отщепенцем,
Безумная игра не стоит свеч,
Но стоит же она шального сердца!
Практически в каждом тексте Вадима Делоне поэтические интонации сводятся к вычерчиванию острого угла в сторону действующей политической машины — заведомая игра с нулевой суммой. Не удивляет и тот факт, что спустя десятилетия его строки — «плакат на площадь бросил, как перчатку» — являются не только сверхактуальными, но и определяющими ракурс сегодняшней событийной ситуации как в России, так и в ближнем зарубежье. Можно, конечно, сослаться на провидческое чутьë автора, на то, что настоящий поэт, ко всему прочему, всегда обладает компетенцией предвещания, но, на мой взгляд, в случае с поэтикой Делоне мы видим яркий пример того, когда не язык следует за поэтом, а поэт неукоснительно является трансляционным инструментом языка ради высокой цели последнего. Живя в постоянном чувстве речевого натяжения, автор, зачастую вопреки собственной целостности и удобству, выбирает опасную стратегию высказывания, осознанно приближая себя к внутреннему ощущению досягаемой человеческой цельности.
Владимир Ярцев
Маковский
В тридцатиградусный мороз,
В пальто осеннем —
В асфальт калëный будто врос
Сухим растеньем.
Я шëл туда — стоял он тут.
Иду обратно.
Стоит. А по щекам цветут,
Как маки, пятна.
Стоит и держит на весу
Сюжет поэмы…
Но выдаст капля на носу
Его проблемы.
Тех маков не вернуть назад
И не увидеть —
Ведь вечность даже дубликат
Скупится выдать.
В этом с виду небольшом будничном наброске Владимира Ярцева ощущается предельный объëм, честность и безоговорочная целостность лирического героя, возникающая как будто из силовых полей — взаимосвязанных деталей случившейся очевидности. Чувство опытного наблюдателя открывает в нëм в большей степени художника, чем поэта, в котором слова, балансируя в пространстве света и перспективы, уступают своë первенство краскам. Ощущение вовлечëнности в художественное полотно текста отчëтливо проявляется по прочтении первых строк и не покидает после. Ярцев при помощи речи, как будто снимая полупрозрачный плюр с надъязычной области, незаметно превращает всë сказанное в структуру застывшего пейзажа с едва ощутимым кровяным колыханием. Где-то проступает гротескная и мозаичная холодность Филонова, где-то — вневременная теплота и плавность Шурица, что и свидетельствует об умении автора складывать обилие слова в подобие живописи.
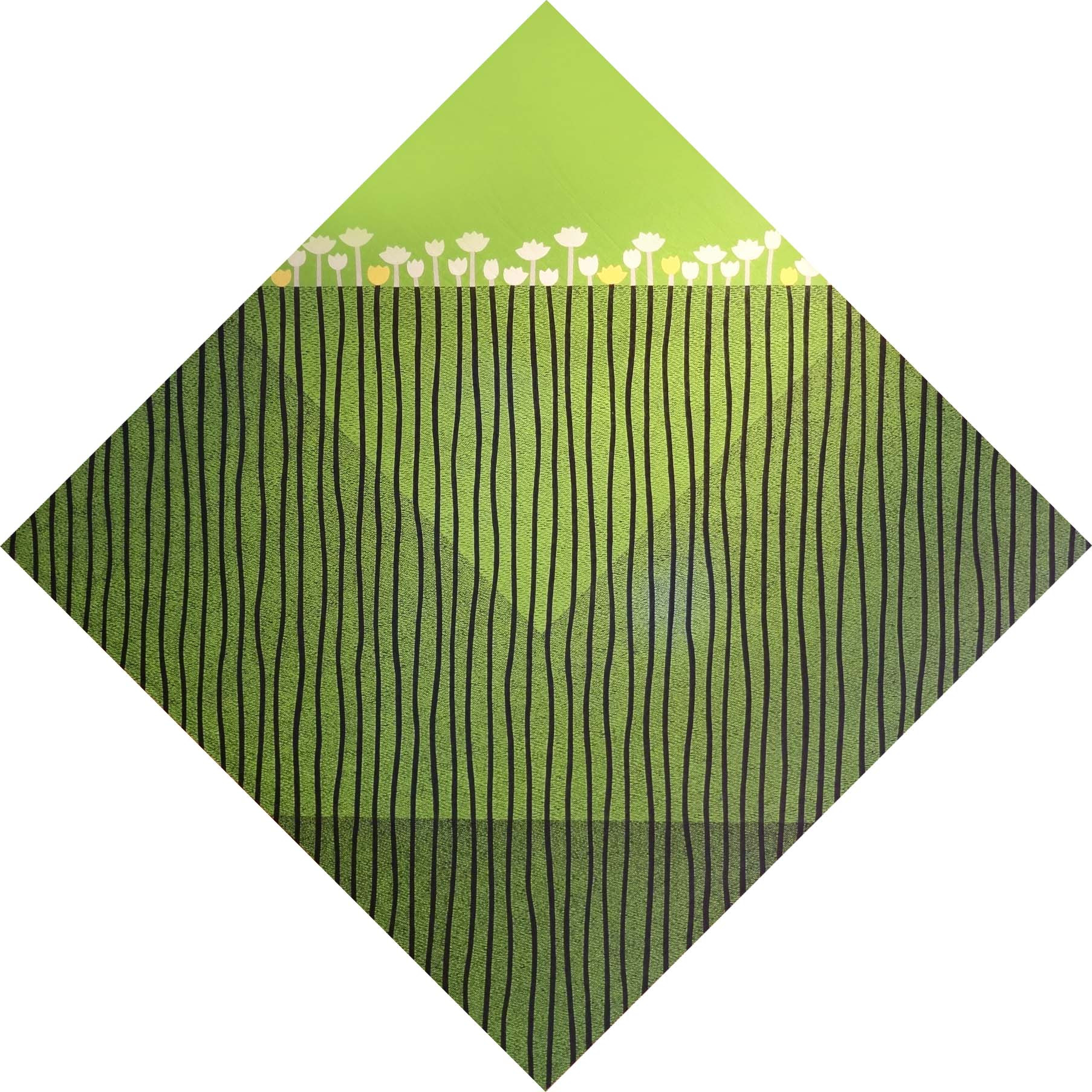
Дмитрий Ревякин
+ + +
Пусти в себя.
Ты опять стал ребëнком:
Чистый, непорочный — светлый…
Страшно быть ясновидцем.
Удары сердца — гром небес над Туло́й.
Откройся мокрым глазам —
Они заставляли петь.
Увидел прошлое — молчи.
Сожги за собой мосты —
Обратной дороги нет.
Ослепни:
Твой поводырь — воздух.
Пустота и ночь где-то здесь,
Всегда рядом.
Стоит лишь оступиться —
Объятья сомкнутся…
Не слушай голоса — это убийцы.
Не бойся,
Жди.
Пусть тебя ранит желанный —
Попроси, пропой, прохрипи;
Он услышит.
Ударит узким клинком —
И чëрная кровь остынет.
Счастливец, —
Тебя любят.
Не пугайся любви,
Не гони еë прочь…
Посмотри в зеркало:
Сухие глаза, резкие скулы.
Зрачки в окружении пепла —
Готовы любой удар упредить.
Время рыдать.
Стань поздней осенью —
Пусть холодеют руки,
Пусть мëрзнут.
Виски томятся неволей… Лети!
Солнце помнит тебя;
Ветер поëт, ищет глаза, —
Брата обнять готов;
Небо тропой дарит.
Венч!
Не слушая го́лоса и намеренно отвлекаясь от него, Дмитрий Ревякин набирается смелости и в этом тексте, как будто по наитию, идëт на поводу у взгляда, точнее, даже у внутреннего (рентгеновского) зрения. Движимый необходимостью инициации, он идëт на очень тонкой способности заглянуть сквозь материальную грубость в тело лирического героя и далее через него — всюду. И именно это осознанное эмотивное движение представляется читателю отчëтливым и целенаправленным трансперсональным опытом — не чем иным, как глубоким и созвучным проживанием собственной идентичности, слитой воедино с допустимой природной средой. Новое прорастание — перепроживание замершей прежней действительности — равно поиску нужного выхода ради свежего чувства свободы. Воздушное пространство текста, собранное воедино из различных эфирных потоков путëм сакрализации и заговаривания, заплетается в прочную верную нить наподобие Ариадниной и сквозь череду телесных препятствий ведëт к безупречному дому. Где в роли безупречного дома выступает обширная область от всевозможной вариативности райских кущ до кровных объятий.
Антон Сурнин
+ + +
мне богомол равны и циркуль
слюда бамбук и стрекоза
ещë сверчкам ночным подобны
дверей цепочных голоса
бывает что-нибудь ещë
как хлеб завëрнутый в бумагу
а то от чëрных муравьев
нельзя ступить в снегу ни шагу
а иногда на лист шершавый
простые просятся слова
про лес про речку
и про домик
на самом дальнем берегу
Поэтический феномен Сурнина заключается в его достаточно плотной, живой и многообещающей действительности, в границах которой читатель, проходя путь от простого к сложному и обратно, в итоге останавливается на самом себе. Это как, обходя лавку старьëвщика, на выходе столкнуться с трюмо в дубовой раме. При всëм том, что читатель, входящий в текст, и читатель, выходящий из него, — это две разные величины. Искусное умение автора деликатно увлечь за собой при помощи возведения узнаваемой и детальной среды, состоящей из бытовых мелочей, знакомых звуков и заученных действий в итоге создаëт прецедент веры, от которого не
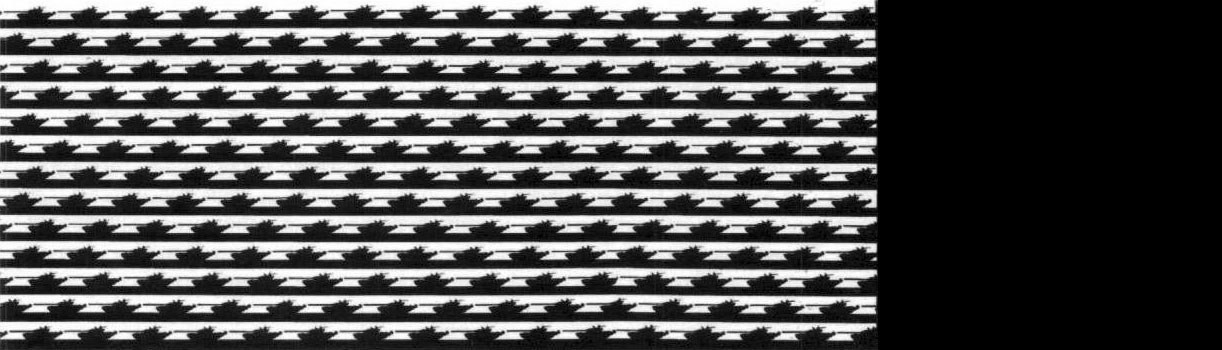
Андрей Юфа
День рождения подполковника жандармерии
(Подражание Гарсиа Лорке)
Офис городской жандармерии.
Подполковник жандармерии:
— Я подполковник жандармерии,
И у меня день рождения!
Жандармы танцуют.
Подполковник жандармерии:
— У меня день рождения,
И это ответственный праздник!
Жандармы танцуют.
Подполковник жандармерии:
— Это ответственный праздник,
И меня поздравил полковник!
Жандармы танцуют.
Подполковник жандармерии:
— Меня поздравил полковник,
И он подарил мне сигару!
Жандармы танцуют.
Подполковник жандармерии:
— И мэр подарил мне сигару,
Ведь у меня день рождения!
Жандармы танцуют.
А
Падают звëзды с неба,
А может быть, это в роще
падают апельсины.
Звонко звучит гитара,
Пахнет травой и хлебом,
Там, пока нет жандармов,
Праздник и вечер синий.
На мой взгляд, Андрею Юфе удалось собрать в этом стихотворении все остальные свои поэтические опыты. Такое иногда случается, когда доходишь до середины чего-либо. Нащупав високосную точку личного творчества, как будто стоя на городской стене, автор открывает читателю два совершенно иных ракурса, не только объединëнных общим ядром, но и наделëнных силой взаимозависимости, где одно не мыслит себя без другого. Ощутимая лëгкость иносказания и умелая игра на контрасте собирают стихотворение в образ воздушного шара, который, в свою очередь, как атрибут любого праздника умеет лишь лететь и радовать. Вот и представленный текст выступает своеобразной левитирующей интермедией стянувшей на себя два генеральных направления в поэтике Юфы: поэтику случившегося и поэтику желаемого. Без особой предосторожности автор вторгается в область извечного, не боясь нам ещë раз напомнить о сиюминутности счастья. И, если говорить языком социального конструктивизма, что может быть трагичнее танцующего жандарма? Только жандарм при исполнении. Вот и здесь интонация танца прежде всего выступает лишь отсрочкой надвигающейся энтропии, хотя хочется верить в обратное.
Виктор Веркутис
+ + +
Сельдь распростëрла
Вишнëвые ребра
После расстрела
Под лампой от бра.
Женщина Стелла
Пальчиком тëрла
Сопельки мела
Чашечки перла,
Кушать хотела —
Картошку сварила.
С селëдного тела снимая слой ила
Зубами грызя
Хрустящие хрящи
Сказала: «Не зря. Вся жизнь в настоящем».
Создание условного ряда вызывающих деталей, таких, как вишнëвые рëбра, чашечки перла, хрустящие хрящи и др., даëт Веркутису несомненное преимущество в формообразовании поэтического пространства, где слова, отыграв свою роль, тут же уходят в тень формирующейся вещественной конструкции. Предельно отчëтливый натюрморт — даже при наличии действующего лица — высится как неуклюжая гора посуды посреди раковины. Выверенные рифмы и ритм в обход языковой плотности работают на визуализацию структуры и насыщенность объëма. Ясность, доносящаяся до читателя посредством создания концептуального макета сюжетной стихотворной среды, в значительной мере созвучна детализации и обиходным откровениям Аркадия Кутилова. Когда вещь заимствуется у случившегося и после помещается в художественное поле, она, вопреки постепенному угасанию, становясь всë более и более энергоëмкой, начинает приоткрывать свои неочевидные ракурсы. На глазах у читателя рыба, становясь вещной, превращается в вещь и далее — в смысловую композицию. Именно эта — зачастую неконтролируемая — трансформативная энергичность, преодолев вербальные границы слова, позволяет не только ощутить некую новую материальную структуру используемых автором предметов, но и отдалëнно увидеть присутствие упомянутой вещи самой в себе.
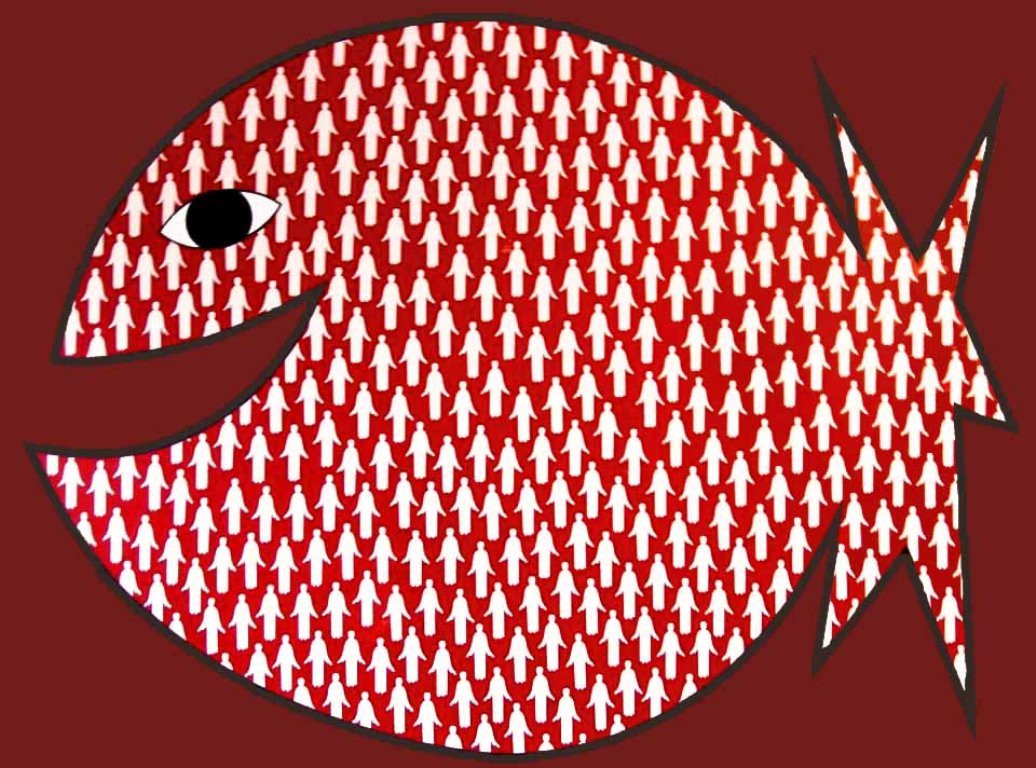
Алексей Гастев
Выходи
В этот город — сто железных дорог.
Мы высадимся сразу.
На дома, на заводы, на колонны.
Всë соединим вместе.
Будет дом в три миллиона жителей.
Наверху зажжëм неистовый жертвенник:
Факела,
Урагано-печи,
Прожекторо-пожары,
П-пах. Сразу потушим.
Ослепим материки…
Трëхмиллионный дом, утонувший во мраке, взорвем.
И заорëм в трещины и катакомбы:
Выходи, железный,
Выходи же, бетонный!
Высотой в версту.
Нога его — броненосец.
Ступня его — как Везувий.
Глаза его — домны.
Руки его — виадуки.
Иди.
И молча,
Ни звука.
Тяжеленными бродами.
Прогуляйся по свету.
Твой путь:
Европа, Азия, Тихий океан, Америка.
Шагай и топай средь ночи железом и камнем. Дойдëшь до уступа,
Это Атлантика.
— Гаркни.
Ошарашь их.
Океаны залязгают, брызгнут к звëздам.
Миссисипи обнимется с Волгой.
Гималаи ринутся на Кордильеры.
— Расхохочись!
Чтобы все деревья на земле встали дыбом и из холмов выросли горы.
И не давай опомниться.
Бери еë, безвольную.
Меси еë, как тесто.
Немного перефразируя одного реформатора ради выражения вполне себе реальных амбиций и грëз другого — ширину колеи определяет величие замысла. Имя Алексея Гастева связано с Новосибирском достаточно плотно: скрытная дореволюционная жизнь беглого заключенного Васильева и писателя И. Дроздова не могла не сказаться на мифологии Сибирского Чикаго. Человек-фантасмагория, он настолько тесно соприкоснулся со здешним топическим масштабом, перспективой и возможностями таëжного края, что в итоге стал транслятором идей колоссального намерения и объëма. Если бы к представленному тексту своевременно добавить миллиона полтора жителей, то образ искомого технократического города-голема превзошëл бы все ожидания автора. Безусловно, в городе ста железных дорог угадывается «Сталь-город», а «Сталь-город» — это отчëтливая и детальная авторская зарисовка идеализированного Ново-Николаевска. Возможно, этот текст и является главным новосибирским стихотворением, напророченной и несостоявшейся судьбой. Стремительность и натиск, масштаб и уверенность в собственных силах связывают в узлы не только прутья сдерживающих авторский дух решëток и железнодорожные рельсы, но и ключевые географические маркеры планетарного масштаба. Внутренний манифест Гастева, экзальтированное топонимическое признание в любви бросает читателя не в холод, не в жар, а сразу к звëздам. Но мало того, ты тут же начинаешь верить: ещë немного — и эти звëзды будут достигнуты. Я тебя и никогда не видел, / только гул твой слышал на заре, / но я знаю: ты живëшь — Овидий / горняков, шахтëров, слесарей! Ты чего ж перед лицом врага стих? / Разве мы безмолвием больны? / Я хочу тебя услышать, Гастев, / больше, чем кого из остальных — и здесь трудно не согласиться с Асеевым.
Александр Дурасов
+ + +
происходит много хорошего
осталось встречаться семьями
ИГИЛ разбомбили в крошево
Пëтр компакт по семьдесят
что больше всего запомнится
так это пустой экран
из красной пластмассы конница
яблоко пополам
пикник по дороге в Киргизию
фиолетовый утренний свет
мамка меня притащила на физио
а там с часу до двух обед
_______
когда Христос показал Иуде
дверцу за старым холстом
ошивались какие-то странные люди
под коммунальным мостом
и на бочке индейку жарили
сверху замкнул светофор
Слово, которое было в начале
произносится до сих пор
Межстрочная мерцающая грусть, слитая воедино с тонким чувством иронии, позволяет созданной, казалось бы, бытовой ретроспективе стать как для автора, так и для читателя чем-то вроде вербального детектора лжи, приравнивая текст к сложно организованной импульсной системе. «Пëтр компакт по семьдесят» — всплеск. «Красная пластмассовая конница» — всплеск. Белая дверь и дерматиновая лавочка возле неë — всплеск. Нащупывание условных болевых точек, их умелое капсулирование и вживление в ткань стихотворения являются отличительной способностью в поэтике Александра Дурасова. Автор при помощи перепроживания и деконструкции состоявшегося рационального и эмоционального опыта заново создаëт в речевом поле нечто похожее на полотно Кузнецова, прислонившись к которому читатель испытывает рефлексологический эффект. Сжимание пространства до уровня действенного символа, метафоры, интонации, фигуры и их последующая самобытная расстановка на воображаемой игральной доске приводят нас к ощущению того, что и для тебя здесь нашлось место. И порой эти ощущения достаточно обоснованны, из чего следует, что представленный нам поэтический навык можно воспринимать как механизм не только заполнения зияющей пустоты, но и воскрешения внутренней правды.

Вячеслав Куприянов
Урок арифметики
Из пустыни
вычитаем пустыню
получаем
поле
Извлекаем корень
из леса
получаем
сад
Складываем
сады с полями
получаем
плоды и хлеб
делим
получаем дружбу
умножаем
получаем
жизнь
Хороший текст, не правда ли? И больше некуда спешить. И дышится легко. И жить охота. Когда уже не опоздаешь всюду.
Вот так и будем.
