Дариан Лидер. Некоторые рассуждения о скорби и меланхолии. Перевод. ч.2
Часть 1: https://syg.ma/@tbaubley/darian-lider-nekotorye-rassuzhdeniya-o-skorbi-i-melanholii-perevod-ch1
Часть 3: https://syg.ma/@tbaubley/darian-lider-nekotorye-rassuzhdeniya-o-skorbi-i-melanholii-perevod-ch3
Лакановская перспектива
Как уже было сказано ранее, в опубликованных работах Лакана мы можем встретить не слишком много упоминаний о скорби и меланхолии. Скорбь подробно обсуждается в семинаре «Желание и его интерпретация» (Лакан, 1958–1959), кратко упоминается в «Этике», затем немного более подробно в «Переносе», прежде чем практически исчезает из виду (Лакан, 1992, с. 354–6; 1991, с. 439, 458–460). В более поздних работах есть несколько хорошо известных замечаний: ссылки на скорбь в конце анализа и «моральная вина» печали и депрессии в «Телевидении» (Лакан, 1974, с. 39). Что касается меланхолии — некоторые комментарии встречаются в семинаре «Тревога» (Лакан, 2014).
Также не раз высказывалось мнение о том, что на самом деле в работах Лакана можно обнаружить более многочисленные ссылки на скорбь и меланхолию, если читать его должным образом. Отсюда, например, как предполагается уместное, расхожее обращение к отрывкам из «Функции и поля речи и языка». (Лакан, 1966, стр. 319; Лоран, 1988). Хотя диагноз меланхолии нередко используется в литературе, описывающей случаи из клинической практики, нам мало сообщают о его метапсихологическом устройстве. Героическим исключением здесь является работа Кристиана Верекена (1986 и 1993–1994), который много писал о меланхолии последние 20 лет. Совсем недавно были проведены важные исследования Женевьевы Морель и ее коллег (2002), а также Фредерика Пеллиона (Морель, 2002; Пеллион, 2000; Делакруа & Рейн, 2001, библиография). Идеи Фрейда не получили своего дальнейшего развития со стороны аналитиков и в отношении скорби, работы лаканистов также весьма сдержанны на этот счет. Особняком выступает замечательное исследование скорби длинною в книгу за авторством Жана Аллуша (1995).
Как поставлен вопрос о скорби в работах самого Лакана? Ряд гипотез семинара «Желание и его интерпретация» разрабатывается через прочтение «Гамлета». Лакан использует эту пьесу для исследования отношений человека с желанием. Поскольку он считает, что желание поддерживается фантазмом, именно отношение Гамлета к фантазматическому объекту становится решающим для его взглядов на произведение. Перед Принцем встают две проблемы, значимые для изучения скорби и утраты. Прежде всего, вопрос знания отца: он знает слишком много, не просто с точки зрения знания причины своей смерти, но еще и потому что он не смог подготовиться к своему последнему причастию, будучи «прерванным, застигнутым врасплох», так что «возможность ответа, воздаяния, навсегда закрыта» (Лакан, 1959–1960, 29 апреля 1959). Во-вторых, у Гамлета есть мать, которая не способна скорбеть: как только ее мужа убивают, она открывает объятия другому мужчине. Нет никакого времени для траура, и субъективная утрата не символизируется. Когда Гамлет сталкивается с Гертрудой, по окончании спора он быстро сдается, сообщая, что та может делать что ей вздумается. Для Лакана это указывает на спад желания Гамлета: он раздавлен желанием матери и, следовательно, не может должным образом расположиться в отношении желания собственного. С точки зрения графа, $ ◇ a колонизировал S[]a.
Прежде чем изучить разработки Лакана с намеченных нами позиций, следует отдать должное тому, насколько они близки актуальным проблемам утраты. В своем новаторском исследовании смерти, горя и траура Джеффри Горер (1965) обратил внимание на распространенность практики сокрытия диагноза от смертельно больных пациентов. В более древних культурах Арьес (1974) обнаруживает куда большую готовность к смерти. По этой причине и он, и Горер видят современную проблему в перспективе отношения смерти к знанию. Какие вопросы, в конце концов, возникают с осознанием неизбежности смерти, если это знание невозможно разделить?
Аналогичным образом, первостепенное значение для процесса скорби имеет тот факт, смог ли родитель символизировать утрату: в клинике мы постоянно наблюдаем, как потеря, не символизированная в семейной истории, возвращается и оборачивается против следующего поколения. Современная культура регулирует эту проблему своеобразно: если раньше дети собирались у постели умирающего, то сегодня они все чаще оказываются исключены. Арьес (1974) отмечает, что до восемнадцатого века ни одно изображение сцены на смертном одре не обходилось без присутствия детей (стр. 12). Там где благие намерения родителя ограничивают доступ ребенка к похоронам, спустя десятилетия мы слышим об обиде и разочаровании, которые указывают на то, что здесь не обошлось без желания.
Учитывая обе проблемы, которые Лакан считает основными для формирования дилеммы Гамлета, как принц может оказаться способен вновь отыскать место своего желания? Трактовка Лакана фокусируется на отношениях Гамлета с Офелией, сначала отвергнутой и униженной, затем ценимой и оплакиваемой. Он рассматривает связь Гамлета с Офелией как некую модель отношения субъекта к объекту желания. Отвержение Офелии интерпретируется как остановка функционирования воображаемой структуры фантазма: лишенный всякой ценности образ плотской женщины, проявившийся в сцене с Гертрудой, вторгается, чтобы загрязнить место Офелии в желании Гамлета. Только после эпизода на кладбище, когда Гамлет сталкивается с образом скорбящего Лаэрта, он может вновь получить доступ к своему желанию. Лаэрт скорбит там, где Гамлет не скорбит, и именно через гомологию уровней графа (d → ($ ◇ a)) и (m → i (a)) Гамлет может принять свое желание (Лакан, 1966, стр. 816). Двойник открывает образ маленького другого в отношении к объекту, и через воображаемое Гамлет оказывается способен направиться по направлению к позиции скорби. Или, как называет это Лакан (1959–1960), происходит «выстраивание объекта», которое становится возможным благодаря столкновению с его внутренней невозможностью (22 апреля 1959 года).
Какого рода невозможность здесь задействована? Главным образом, именно реальная потеря Офелии возвышает ее до уровня невозможного объекта. Место этого объекта конструируется через комплекс кастрации. Субъект лишается части своего бытия, означающим которого является фаллос: тогда объект может занять место того, чего субъект символически лишен. Это означает, что Офелия может обрести свою ценность только при условии того, что Лакан называет «скорбью по фаллосу». Изначальное отвержение Гамлетом Офелии интерпретируется как отказ от фаллоса, и этот отказ должен перейти на уровень жертвоприношения, чтобы реинтеграция объекта могла состояться. Именно как скорбь по фаллосу Лакан (1959–1960) характеризует Untergang Эдипова комплекса (29 апреля 1959 г.).
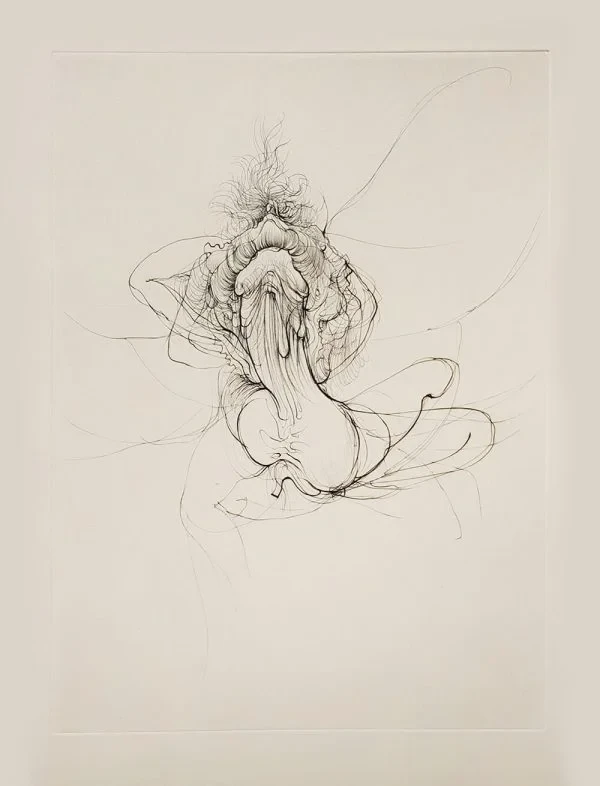
Комментарий Лакана не только открывает ряд новых перспектив на процесс скорби, но и определенным образом резонирует с кляйнианской теорией. Как отмечает Аллуш, идея Лакана о том, что скорбь может состояться только при «выстраивании» объекта, перекликается с известной формулой Кляйн: «Пока объект не живет как целый, его потеря не может восприниматься как потеря целого» (Аллуш, 1995, стр. 52; Кляйн, 1935, стр. 264). Хотя апелляция к целостности едва ли может считаться свойственной лакановскому подходу, обе точки зрения разделяют положение, согласно которому скорбь может работать только тогда, когда объект — и место объекта — сформированы, и что эта конструкция никогда не является изначальной данностью. Точно так же ссылка на жертвоприношение позволяет нам лучше понять погребальные обряды, включающие отказ скорбящего от части себя, будь то в прядь волос или какой-либо иной предмет, который должен быть брошен в могилу или склеп: волосы скорбящего, в отличие от самого скорбящего, останутся с умершим. Можно предположить, что в некоторых случаях скорбящий идентифицирует себя с этим отброшенным объектом, так что жертвоприношение включает в себя не часть субъекта, а самого субъекта как такового.
Мысль Лакана также поднимает вопрос о месте скорби другого для субъекта. В конце концов, именно через открывшуюся ему картину скорби Лаэрта — Гамлет обретает доступ к скорби собственной. Этот диалог двух трауров является мотивом, который неоднократно описывался в литературе и поэзии. Мы могли бы привести в качестве примера сцену из «Илиады», когда после смерти Патрокла женщины открыто оплакивают его уход, и в то же время «каждая из-за своих печалей», а мужчины «каждый вспоминает, что он оставил дома» (Илиада 19: 302). Ритуал публичного траура по погибшему воину служит поляризации воспоминаний о прежних потерях для присутствующих. Более того, высказывалось мнение о том, что плач по давно умершим героям, занимавший столь важное место в эллинистической культуре, выполнял функцию создания пространства для оплакивания персональных, личных утрат (Сифорд, 1994).
Этот диалог траура находит отклик в работах Кляйн. В своей статье 1940 года о печали и ее связи с маниакально-депрессивными состояниями она делает несколько интригующих замечаний о том, что работа скорби проходит быстрее, если внутренние объекты человека скорбят вместе с ним (Кляйн, 1940, с. 359–362). Эта идея связи между траурами или «заимствованным трауром» была косвенным образом развита Ханной Сигал (1952) в ее классической статье об эстетике. Сигал подробно останавливается на кляйнианских концепциях, предоставляя основу для понимания эстетического опыта. После обсуждения концепции сублимации она делает очень простой, оставшийся незамеченным вывод об опыте переживания произведений искусства: хотя на каком-то уровне мы можем думать, что «идентифицируемся» с главными героями, не менее важным представляется процесс идентификации с автором, как с тем, кто смог создать что-то из предполагаемого опыта утраты. Как пишет Сигал (1952), они смогли создать нечто «из хаоса и разрушения» (стр. 199).
Это может показаться тривиальностью, и мы в праве не согласиться с объяснениями Сигал, но эта тривиальность указывает на значимость столкновения со скорбью другого. Сигал утверждает, что именно через «идентификацию с художником» может быть достигнуто успешное прохождение траура, подразумевая скорее мимолетный опыт катарсиса, нежели продолжительную работу скорби, описанную Фрейдом. Однако, если следовать её кляйнианскому подходу и рассматривать все творческие произведения как продукты одних и тех же механизмов, место искусства в культуре приобретает новый смысл: это набор инструментов, помогающих нам справляться с утратой. Этот мотив уже встречается в «Государстве» Платона, где говорится, как «испытывает удовольствие и удовлетворяется поэтами то начало нашей души, которое при собственных наших несчастьях мы изо всех сил сдерживаем, — а ведь оно жаждет выплакаться, вволю погоревать и тем насытиться: таковы уж его природные стремления» (Государство 605c–606b; Сифорд, 1994, стр. 140).
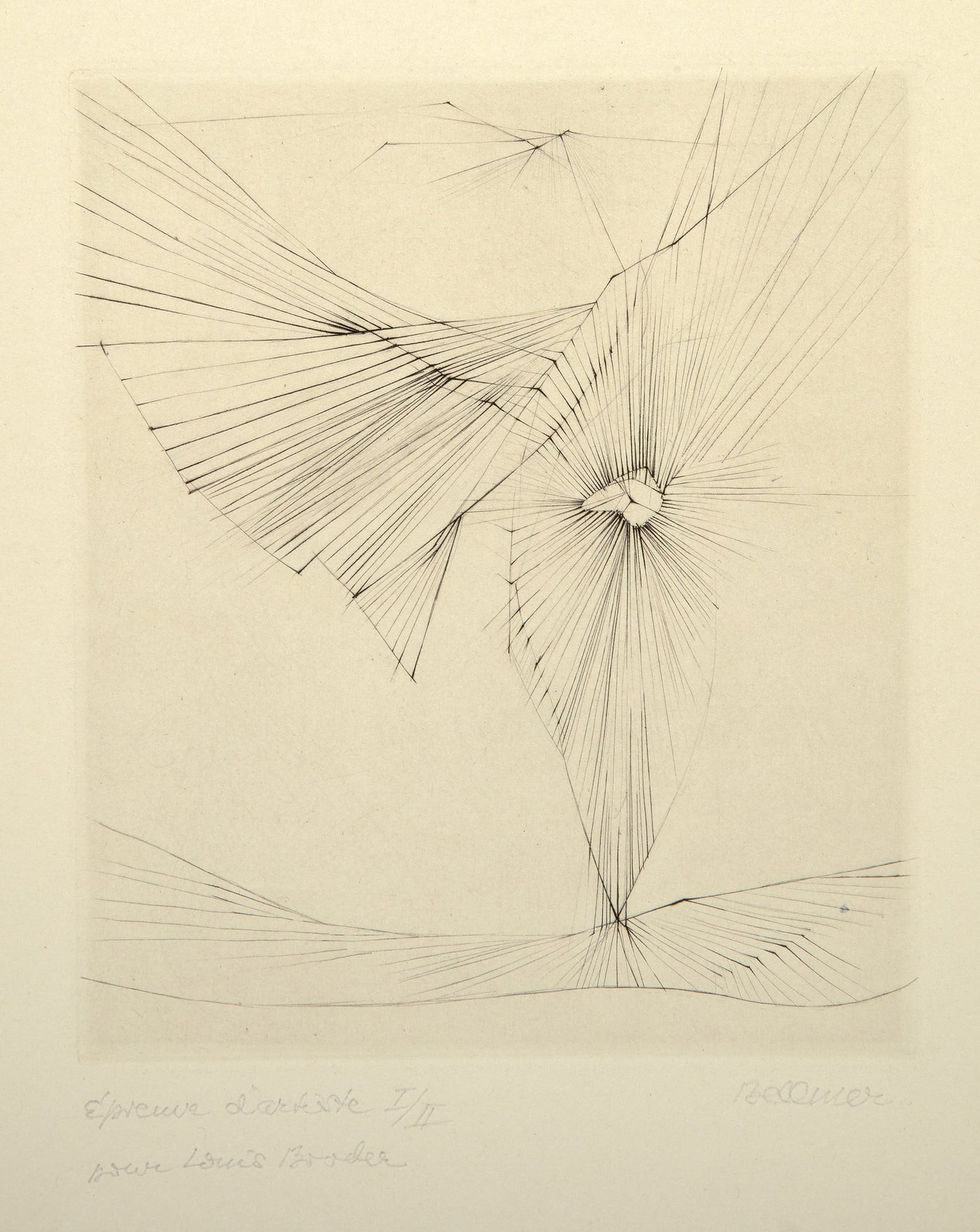
Концепция диалога трауров, которую мы можем извлечь из работ Лакана и Кляйн, не предполагает, что наблюдение за скорбью другого обязательно вызовет скорбь субъекта; еще в меньшей степени предполагается, что, если траур и начнётся, то он непременно станет глубоким, продолжительным или успешным. Другой траур может быть задействован в качестве воображаемого маршрута для субъекта, но не более того. Этот процесс может пролить свет и на иные явления в той мере, в какой он предупреждает нас об активном воздействии сравнения. Обретение воображаемой репрезентации, которая отражает нашу собственную ситуацию, как мы уже успели убедиться, может инициировать процесс скорби, но как быть со случаями, когда сама возможность сравнения исключена?
Самым очевидным и, возможно, единственным примером такого рода преграды в нашей культуре является Холокост. Когда Сильвия Плат осмелилась использовать образы Холокоста в своём стихотворении «Папочка» в контексте личных, автобиографических переживаний, она навлекла на себя гнев и возмущение (Малкольм, 1993, с. 64–65). Если относиться к аргументу о резонансе труауров всерьез, мы можем столкнуться с рядом проблем: в частности, печать запрета на сравнения, связанная с представлениями о Холокосте, не позволяет реализоваться обсуждаемой нами модели скорби. На клиническом уровне мы обнаруживаем примеры недоступности сравнений в незамысловатой идее отсутствия символизации утраты в семье. Мы видим, что Гамлет не нашел ничего подобного в Гертруде и вынужден был дожидаться встречи со скорбящим Лаэртом.
Это может сообщить кое-что как о скорби, так и о памяти. Книга Марка Роузмана (2000) «Прошлое в укрытии» рассказывает историю Марианны Элленбоген, молодой еврейки, которая выжила в подполье нацистской Германии. Нарратив Роузмана построен не только на интервью с Марианной, но и на ее актуальных дневниках, а также информации, собранной из других источников. Книга примечательна своим смелым подходом к довольно сложной теме: Роузмана интересует не столько изображение героизма и доблести, сколько исследование напряженности между фактами и вымыслом в повествовании Марианны. Её дневники военного времени зачастую рассказывают историю совершенно отличную от ее позднейших реконструкций, причём обе эти версии время от времени противоречат сторонним свидетельствам (Роузман, 1999).
По мере изучения материала, для Роузмана стала очевидна определенная закономерность. В тех случаях, когда моменты разлуки были настолько травматичными, что становились невыносимыми для субъекта, они переписывались с использованием воспоминаний других людей. Как следует понимать этот странный феномен? Это не столько вопрос так называемого синдрома ложных воспоминаний, сколько принцип заимствованного траура: истории, которыми Марианна заменяла невыразимые моменты в своем повествовании, касались чужого горя по поводу утраты, с вкраплением отдельных деталей об обстоятельствах этой утраты. Хотя, как показывает Роузман, эти утраты и не были ее собственными, разве не стали они инструментами, позволившими ей скорбеть? Это явление может напомнить принцип работы истерической идентификации, где общий элемент обнаруживается благодаря общему опыту нехватки. Субъект ставит себя на место другого, поскольку вменяет ему нехватку, как это демонстрируют известные примеры Фрейда (1899, стр. 149–151).
Но действительно ли обсуждаемый процесс настолько схож с истерической идентификацией? Это далеко не так очевидно, и мы вновь вынуждены вернуться к вопросу, который был поднят ранее, вопросу о необычайной скудости психоаналитической литературы о скорби. Контраст между художественной прозой и поэзией кажется поразительным: например, большинство современных британских дебютных романов так или иначе затрагивают тему смерти. Поскольку психоаналитики, как и все люди, сталкиваются с утратами, почему они избегают даже попыток писать об этом? Конечно, существуют и исключения, к примеру, многочисленные работы Джорджа Поллока (1961) о скорби, которые, по его собственному свидетельству, он начал писать после смерти матери. Но такие случаи остаются скорее исключением, чем правилом. Почему аналитики должны ступать так осторожно там, где писатели решительно устремляются вперёд?
Помимо очевидных причин, связанных с нежеланием распространяться о подробностях своей частной жизни, возможно, здесь мы сможем отыскать более структурное объяснение, даже подсказку относительно некоторых механизмов скорби. Начнём с клинического наблюдения: зачастую художники очень мало говорят о своей работе в анализе. Они могут говорить практически обо всем остальном, о своих конкурентах, арт дилерах, партнерах и так далее, но не о том, что на самом деле делают. Вероятно, одна из причин заключается в том, что процессы, приводящие к созданию произведений искусства, отличаются от тех, которые связаны с механизмом вытеснения. Можем ли мы допустить, что избегание темы скорби предполагает, что здесь мы имеем дело не с вытеснением, а с другими механизмами, и что для их описания приходится прибегать к художественной прозе или иным формам творческого выражения?
Возможно, намек на это содержится в рассуждениях Лакана о скорби (1959–1960). Здесь он практически ничего не говорит о вытеснении и, что удивительно, сравнивает скорбь — в инвертированном виде — с механизмом, конституирующим психотическую структуру: форклюзией (22 апреля 1959 г.). В психозе мы наблюдаем возвращение в Реальное элементов, отброшенных в Символическом. В скорби, по утверждению Лакана, происходит противоположное: реальная утрата провоцирует мобилизацию всей совокупности символического. Здесь мы снова находим отголосок идей Кляйн, которая подчеркивала, как скорбь запускает мобилизацию внутреннего мира субъекта в его совокупности, не только репрезентаций утраченного объекта, но и полного набора репрезентаций всех объектов. В этом месте Лакан отсылает нас к погребальным обрядам, ряду сугубо формальных практик, в которых участвует скорбящий. Формальный характер подобных практик действительно породил бесконечные споры в антропологии о том, являются ли эмоции, проявляемые в процессе обряда, «подлинными» и возникают ли они до обрядов или являются их следствием (Меткаф & Хантингтон, 1991). Акцент Лакана на означающем позволяет избежать ловушек этих споров: если символическое мобилизуется в качестве совокупности, то внимание должно быть сосредоточено именно на тех структурах, которые обладают наибольшей символической плотностью, дистанцированной от поля воображаемых значений.
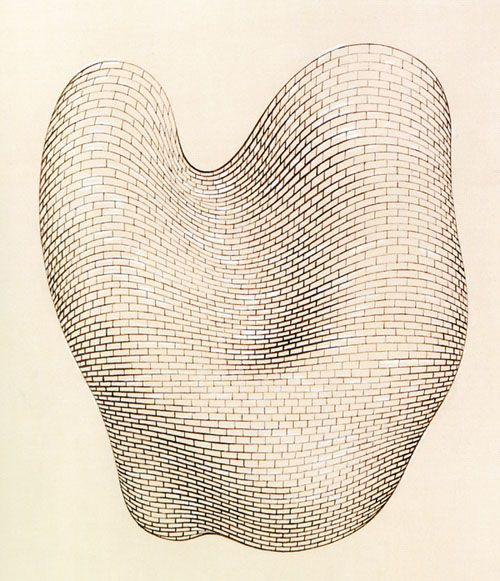
Учитывая это сравнение, необычные воображаемые феномены, наблюдаемые в процессе скорби, такие как квази-галлюцинаторные переживания, представляются не столь удивительными: если символическое отвечает на дыру в реальном, то воображаемые элементы могут быть мобилизованы, так же как они мобилизуются в инвертированном процессе при психозе. Идея Лакана заключается в том, что хотя символическое и мобилизовано, означающих элементов оказывается недостаточно, чтобы залатать дыру, открытую утратой. Отсюда — появление фольклорного и фантазматического строя призраков и духов, когда похоронные обряды оставляются или урезаются. Похоронные обряды выполняют функцию медиации между разрывом, вызванным утратой, и устанавливают соответствие между этим разрывом и символической нехваткой. Ключевым означающим становится фаллос, который проецируется в дыру, открытую потерей, но поскольку фаллос как означающее не может быть артикулирован непосредственно, множество тревожных образов, так часто наблюдаемых в процессе траура, обрушиваются на скорбящего именно в этой точке символической нехватки (Лакан, 1959–1960, 29 апреля 1959).
Когда Лакан развивает свою теорию объекта как реального в начале 1960-х годов, он возвращается к теме скорби в семинаре о тревоге (Лакан, 2014). Гамлет, напоминает он, демонстрирует, что из себя представляет скорбь — усилие по восстановлению связи с утраченным объектом. Здесь мы можем отметить причудливое сближение Лакана с Боулби: оба подвергают сомнению фрейдистскую точку зрения, согласно которой суть детальной проработки скорби заключается в сепарации. Но там, где Боулби видит это как попытку воссоединения с утраченным объектом, Лакан рассматривает это как стремление восстановить место объекта, что предполагает отказ субъекта от части себя. Радикальная природа взглядов Лакана на скорбь заключается в том, что речь идет не об отказе от объекта, а о восстановлении связи с объектом как с утраченным, невозможным. Ключевой аспект состоит в том, чтобы отличить объект от воображаемой оболочки, которая его скрывает.
Если связь с объектом восстановлена, и место воображаемой оболочки становится различимым, тогда может стать возможным, что иной i (a) займет его место. Проблема скорбящего, утверждает Лакан, заключается в поддержании связей с i (a), через которые любовь структурируется нарциссически. Теперь скорбь и меланхолия различаются через эти переменные: a должен быть отделен от i (a), и именно в попытке реализовать себя в качестве объекта a меланхолик может перейти к акту в суицидальных сценариях, которые предполагают уход со «сцены» (Лакан, 2014, сессии от 16 января 1963 года и 3 июля 1963 года). Если в скорби речь идет о выстраивании объекта и, следовательно, о восстановлении связи субъекта с объектом в фантазме, то в меланхолии такое «выстраивание» невозможно: вместо этого субъект тяготеет к месту объекта a, отделенного от означающей структуры, или, как это называет Лакан, «сцены мира».
Клинический пример может проиллюстрировать функционирование этих концепций. Пациент потерял жену год назад и с момента ее смерти пребывал в бездействии, не мог работать, заниматься повседневными делами, был одержим образами и воспоминаниями, искал её лицо в толпе и был не в состоянии поддерживать отношения с друзьями и семьей. Представленные события развивались в течение шести месяцев, по завершении которых пациент сумел преодолеть тяжесть своего инертного состояния, возобновить деятельность и снова задуматься о своих жизненных перспективах. Я решил сфокусироваться на серии снов, поскольку они, судя по всему, указывают на то, что позволило процессу скорби состояться и дало понять пациенту о происходящих переменах.
Сон 1: X в бешенстве из-за супруги, между ними происходит крупная ссора. Он упрекает её в том, что та утаила определенную информацию. Затем на сцену выходит другая женщина, обладающая утрированными чертами жены. Он уходит с ней, и в ходе вечеринки замечает, что ведёт себя с этой женщиной так же, как жена обходилась с ним на публике. Проснувшись, X на мгновение задерживает в сознании зрительный образ второй женщины и внезапно понимает, что это на самом деле образ супруги.
Сон 2: X находится в доме, где они жили с женой. Он хочет выпить чашку чая, но молока нет. Он просит молоко у разных людей, которые ошиваются рядом, но ему говорят, что молоко закончилось. Тогда он проверяет каждую комнату дома, ожидая найти там кого-то, но никого нет. Наконец, в последней комнате X замечает множество разложенных вещей, которые свидетельствуют либо о подготовке к поездке, либо о возвращении из нее. Он ожидает увидеть жену, но комната пуста.
Сон 3: X в магазине. Он роняет упаковку молока и надеется, что кассирша даст ему еще одну бесплатно. Она этого не делает. Тогда он выкладывает всю свою мелочь, но кассирша всё равно отказывает. В этот момент появляется жена, и они страстно обнимаются в очень плотской, чувственной манере.
Сон 4: X с женой. Она говорит: «Это одностороннее движение». X пытается понять, что это значит. Кого это касается — его или её? Он пытается разобраться, но не может. В течение всего сна X отчетливо ощущает, что он не знает свою жену. Затем он оказывается в комнате с чемоданами. Он произносит либо «Возвращаешься откуда-то?», либо «Собираешься куда-то?», но не может вспомнить, какая фраза была сказана.
Сон 5: X снова с женой и вновь ощущает ее как чуждую. Она кажется далёкой, совершенно непроницаемой. Затем она берёт его за руку и говорит: «Никогда не оставляй меня». Х отвечает: «Не оставлю», но в глубине души не совсем в этом уверен.
Сон 6: X чувствует себя не в своей тарелке. Затем появляется образ куска белой ткани с небольшим пятном экскрементов.
Эти сны, безусловно, можно рассматривать с точки зрения популярной психологии: отрицание смерти, ярость, путешествие, расставание и так далее. Однако они открывают гораздо большее — те внутренние процессы, которые делают скорбь возможной. Прежде всего, обратим внимание на первый сон: упрек, адресованный жене, фактически повторяет упрек матери, который возник у X еще в детстве и не осознавался до момента пока ассоциации не привели его к этой точке. Удвоение женщин и идентификационное поведение X указывают на регистр Воображаемого и, как мы увидим, на параметр нарциссизма. Второй сон также вызывает к жизни отношение X к матери, у которой «закончилось молоко» после короткого периода кормления грудью X. Третий сон в еще большей степени проясняет разделение нарциссического поля и объекта: когда X сталкивается с женщиной, которая отказывается давать ему что-либо, появляется образ жены, и телесное наслаждение становится ответом на фрустрацию. С точки зрения анализа на этом этапе центральным был вопрос об объекте, воплощенном в его жене, и о том, как он соотносился с образом матери.
Четвертый и пятый сны, в определенном смысле, являются образцовыми для процесса скорби, поскольку демонстрируют расхождение между образом и регистром Реального, лежащим за его пределами. Оба они сталкивают X с интенсивным ощущением чего-то неусвояемого в жене. Вопрос о значении одностороннего движения навел X на мысли как о безвозвратном пути, который уже проделала его супруга, так и о том, что однажды и ему предстоит отправиться в тот же путь. Его непонимание можно рассматривать как знак столкновения с Реальным, где смерть предстает в качестве непроницаемой загадки, на которую ни у субъекта, ни у означающего ответа нет. Вопросы о значении багажа также напомнили X о важном эпизоде детства, когда его мать уехала в поездку без какого-либо предупреждения. Эти же мотивы разыгрываются в пятом сне вокруг фразы: «Никогда не оставляй меня» — X приписал ее самому себе, как адресованную одновременно и матери, и жене.
Прежде чем прокомментировать, на первый взгляд, неуместный шестой сон, следует сказать несколько слов о переживаниях X приблизительно со времени четвертого сна. Эти месяцы характеризовались преодолением застоя и почти маниакальным наслаждением от определённых шуток, игры слов и анекдотов, к которым он постоянно возвращался. Однако после шестого сна X осознал, что все эти игры слов и анекдоты вращались вокруг общего мотива — скатологических намёков на «анального ребенка». В сновидении произошел переход: от лишенного места субъекта — к его полному растворению в образе ткани, испачканной экскрементами, что сделало субъект и объект эквивалентными друг другу. В этот момент X вспомнил эпизод из времен, когда впервые встретил жену. Перед ужином, на котором их познакомили, он услышал историю о сцене на отдыхе, где она, по-видимому, совершенно без стеснения облегчилась. В последующие недели X восстановил в памяти свои попытки скрыть экскреторную деятельность в детстве от всех, кроме матери.
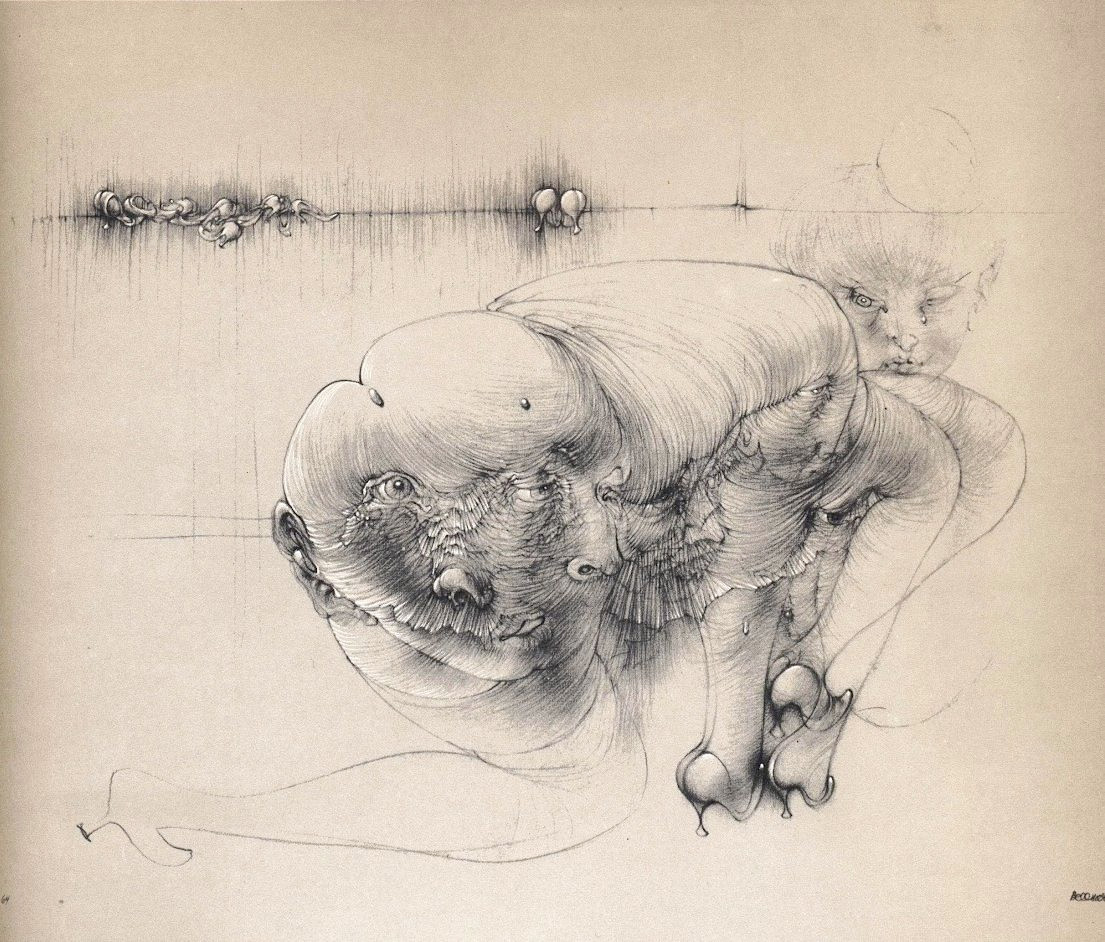
Сны X не интерпретировались аналитиком — их толковал сам X, и в определённом смысле, как и многие сны, сопровождающие процесс скорби, они являлись интерпретациями сами по себе. Хотя мы можем предпочесть искать в них анальную динамику, которая так интересовала Абрахама, их основная функция заключается в разделении между полем нарциссической идентификации и объектом, на чем и настаивал Лакан. В серии сновидений мы наблюдаем отделение образа жены от орального и анального объектов, а в ассоциациях — причину, по которой эта женщина занимала место в его фантазме так долго, причину, которая одной ногой стоит в поле нарциссизма. В шестом сне мы видим, как отсутствие означающего отвечает на момент реальной утраты. А в завершении череды сновидений, с пробуждением нового интереса X к жизни, мы наблюдаем реинтеграцию объекта в его нарциссическую структуру.
Эти сны также иллюстрируют диалектику желания, которую Лакан разместил в сердцевине работы скорби. Непроницаемость образа женщины и её загадочное высказывание указывают на измерение желания Другого, и объект возникает в качестве ответа. Вопрос, который здесь поднят, заключается в том, в какой степени субъект был нехваткой для Другого — то есть, какое место он занимал в его желании. Хотя фраза «Никогда не оставляй меня» первоначально приписывается жене, ее невыразимое и непрозрачное присутствие в предыдущих снах воспринималось как фундаментальное неузнавание, свидетельствующее о том, что ее желание в конечном итоге было направлено за пределы субъекта. Когда Лакан говорит о том, что мы можем оплакивать лишь того, о ком можем сказать: «Я был его нехваткой», он имел в виду именно вопрос о том, кем мы были для Другого. В этом смысле часть работы скорби состоит в оплакивании воображаемого объекта, которым мы являлись для Другого. И разве ненависть не является одним из следствий неспособности сказать: «Я был его нехваткой»? Именно это, согласно Фрейду, блокирует процесс скорби.
Библиография
Allouch, J. (1995). Erotique du deuil au temps de la mort seche. Paris: EPEL.
Aries, P. (1974). Western Attitudes Toward Death From the Middle Ages to the Present. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Delacroix, C., & Rein, G. (2001). Bibliographie sue melancolie et depression. Figures de Psychanalyse, 4, 125–133.
Freud, S. (1899). The interpretation of dreams. In J. Strachey (Ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IV. London: Hogarth Press.
Gorer, G. (1965). Death, Grief and Mourning. New York: Doubleday.
Klein, M. A. (1935). Contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. In Love, Guilt and Reparation. London: Hogarth, 1975.
Klein, M.A. (1940). Mourning and its relation to manic-depressive states. In M. Money-Kyrle (Ed.), Love, Guilt and Reparation. London: Hogarth, 1975.
Lacan, J. (1958–59). Le Désir et son Interpretation. Unpublished seminar.
Lacan, J. (1959–60). L’Ethique de la Psychanalyse. J.-A. Miller (Ed.). Paris: Seuil, 1986.
Lacan, J. (1966). Ecrits. Paris: Seuil.
Lacan, J. (1974). Television. Paris: Seuil.
Lacan, J. (1991). Le Séminaire. Livre VIII: Le Transfert. J.-A. Miller (Ed.). Paris: Seuil.
Lacan, J. (1992). The Seminar. Book VII: The Ethics of Psychoanalysis (D. Porter, Trans.). J.-A. Miller (Ed.). New York and London: Routledge.
Lacan, J. (2014). The Seminar Book X: Anxiety (A.R. Price, Trans.). J.-A. Miller (Ed.). Cambridge: Polity.
Laurent, E. (1988). Melancolie, douleur d’exister, lachete morale. Ornicar? 47, 5–17.
Malcom, J. (1993). The Silent Woman. London: Papermac, 1995.
Menard, A. (1982). Sur le deuil et la melancolie. Analytica, 29, 47–61.
Metcalf, P., & Huntington, R. (1991). Celebrations of Death (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Morel, G. (Ed.). (2002). Clinique du Suicide. Paris: Eres.
Pellion, F. (2000). Melancolie et verite. Paris: Presses Universitaires de France.
Pollock, G. (1961). Mourning and adaptation. International Journal of Psychoanalysis, 42, 341–371.
Roseman, M. (1999). Surviving memory: Truth and inaccuracy in Holocaust testimony. Journal of Holocaust Education, 8, 1–20.
Roseman, M. (2000). The Past in Hiding. London: Penguin.
Seaford, R. (1994). Reciprocity and Ritual. Oxford: Clarendon.
Segal, H. (1952). A psychoanalytic approach to aesthetics. In The Work of Hanna Segal (pp. 185–205). London: Free Association Books, 1986.
Turnheim, M. (1997). Deuil et amour. La Cause Freudienne, 35, 66–71.
Vereecken, C. (1986). Melancolie, perversion et identifications ideales. Actes de L’Ecole de la Cause Freudienne, XI, 24–29.
